
|
11 лет на сайте
8 февраля 2024 |

|
10 лет на сайте
8 февраля 2023 |

|
100 подписчиков
24 января 2023 |

|
9 лет на сайте
8 февраля 2022 |

|
8 лет на сайте
8 февраля 2021 |
|
#даты #литература #поэзия #цитаты #длиннопост
150 лет со дня рождения Валерия Брюсова Есть в Москве Брюсов переулок. Как известно, назван он в честь графа Якова Вилимовича Брюса, одного из «птенцов гнезда Петрова» — генерал-фельдмаршала, дипломата, инженера и ученого, чей предок происходил из древнего шотландского рода и переселился в Россию в середине XVII века, после утраты Шотландией независимости. В народе Яков Вилимович имел репутацию чернокнижника («колдун на Сухаревой башне»). У Брюса, само собой, были крепостные крестьяне — «Брюсовы». Одному из носителей этой фамилии в 1850-х годах удалось мелочной торговлей собрать достаточно деньжонок и выкупиться на волю. Кузьма Брюсов до конца своих дней был полуграмотен. Его сын Яков (родившийся тоже крепостным, но «доросший» до купеческого звания) — уже человек довольно образованный, поклонник Некрасова и Чернышевского, убежденный демократ и дарвинист. А сын Якова — Валерий Брюсов — окончил историко-филологический факультет Московского университета и стал выдающимся эрудитом. Брюсов прожил всего 50 лет — но любой словарь выдаст примерно такую его характеристику: «поэт, прозаик, драматург, переводчик, журналист, редактор, литературовед, литературный критик и историк; теоретик и один из основоположников русского символизма». В юности он сказал: «Я хочу жить так, чтобы в истории всеобщей литературы обо мне было две строчки. И они будут!» Энергичный, деятельный характер этого человека сочетался с амбициозностью и страстной жаждой знания: Свободно владея (кроме русского) языками латинским и французским, я знаю настолько, чтобы читать без словаря, языки: древнегреческий, немецкий, английский, итальянский; с некоторым трудом могу читать по-испански и по-шведски; имею понятие о языках: санскритском, польском, чешском, болгарском, сербском. Заглядывал в грамматики языков: древнееврейского, древнеегипетского, арабского, древнеперсидского и японского. Характерное выражение — «научный оккультизм». Чисто брюсовская черта: даже в спиритизме (который был тогда в моде) его притягивало внешнее сходство с экспериментальной наукой. Недаром любимым предметом Брюсова в юности была математика.В чем я специалист? 1) Современная русская поэзия. 2) Пушкин и его эпоха. Тютчев. 3) Отчасти вся история русской литературы. 4) Современная французская поэзия. 5) Отчасти французский романтизм. 6) XVI век. 7) Научный оккультизм. Спиритизм. 8) Данте; его время. 9) Позднейшая эпоха римской литературы. 10) Эстетика и философия искусства. Но, Боже мой! Как жалок этот горделивый перечень сравнительно с тем, чего я не знаю. Весь мир политических наук, все очарование наук естественных, физика и химия с их новыми поразительными горизонтами, все изучение жизни на земле, зоология, ботаника, соблазны прикладной механики, истинное знание истории искусств, целые миры, о которых я едва наслышан, древность Египта, Индия, государство Майев, мифическая Атлантида, современный Восток с его удивительной жизнью, медицина, познание самого себя и умозрения новых философов, о которых я узнаю из вторых, из третьих рук. Если бы мне жить сто жизней — они не насытили бы всей жажды познания, которая сжигает меня! В библиотеке Брюсова насчитывалось около 5000 томов. Из них:• 200 томов энциклопедических и прочих словарей и грамматик • 241 том — античный отдел • 224 — Пушкин и литература о нем • 330 — прочие русские классики и литературоведение в целом • 1135 — писатели эпохи символизма • 676 — французская литература • 129 — английская • 93 — немецкая • 66 — итальянская • 80 — армянская • 220 — искусство • 143 — философия • 43 — история религии • 64 — математика • 47 — естествознание • 233 — альманахи, русские и зарубежные • 1018 — журналы В одной из своих статей Брюсов сделал тонкое замечание о пушкинском Сальери: он не завистник — от Моцарта Сальери отличает иной склад художественного дарования, которое исходит не от наитий, а от выстроенного алгоритма («поверить алгеброй гармонию»). Статья называлась «Пушкин и Баратынский» — они, по мнению Брюсова, были характернейшими представителями этих двух типов. И себя он тоже относил к «сальерианцам». Такой необычный для поэта рационалистический и одновременно экстенсивный склад мышления не мог не дать довольно любопытных результатов. Здесь пролегает черта, отделяющая Брюсова от Блока, «старших» символистов» от «младших». Младшие шли вглубь. Старшие — и Брюсов прежде всего — раскидывались вширь. Поэтический мир его в большей степени внешний, чем внутренний. Это своего рода музей с галереей экспонатов: пейзажи, портреты, памятники искусства, исторические события, верования, идеи, «мгновения»… Брюсов жаден — он не желает оставить что-либо непознанным и невоспетым: Мой дух не изнемог во мгле противоречий, Хотел того Брюсов или нет, последняя строчка выглядит как признание внутреннего холода: под покровом кипучей активности, внешне бурных эмоций — трезвый взгляд регистратора и аналитика.Не обессилел ум в сцепленьях роковых. Я все мечты люблю, мне дороги все речи, И всем богам я посвящаю стих… Я посещал сады Лицеев, Академий, На воске отмечал реченья мудрецов, Как верный ученик, я был ласкаем всеми, Но сам любил лишь сочетанья слов. Стремление к всеохватности отражается даже в названиях поэтических сборников и циклов Брюсова, где в тех или иных формах вылезает множественное число — плюс отсутствие ложной скромности: Juvenilia (Юношеское), Chefs d’oeuvre (Шедевры), Me eum esse (Это я), Tertia vigilia (Третья стража), Urbi et Orbi (Миру и Городу — формула Папы!), Stephanos (Венок), Все напевы, Зеркало теней, Семь цветов радуги, Девятая камена, Последние мечты, В такие дни, Миг, Дали, Меа (Спеши)… Брюсов мечтал запечатлеть в циклах «Сны человечества» все формы культурного сознания и все типы мышления. Даже сборник его работ о русских поэтах был озаглавлен так, чтобы объять всё и вся: «Далекие и близкие». И вышло так, что человеку с подобным складом мышления довелось стать провозвестником и лидером русского символизма — причем вовсе не по причине почившего на нем благословения музы или тому подобных таинственных феноменов, а вследствие целенаправленного решения. Преклоняясь перед Пушкиным, Брюсов тем не менее считал, что новая эпоха нуждается в новом языке: «Что если бы я вздумал на гомеровском языке писать трактат по спектральному анализу?» В 20 лет он записал в своем дневнике: Талант, даже гений, честно дадут только медленный успех, если дадут его. Это мало! Мне мало. Надо выбрать иное… Найти путеводную звезду в тумане. И я вижу ее: это декадентство. Да! Что ни говорить, ложно ли оно. смешно ли, но оно идет вперед, развивается, и будущее будет принадлежать ему, особенно когда оно найдет достойного вождя. А этим вождем буду я! Сказано — сделано. Через год вышел первый сборник его стихов. Затем — лет десять насмешек и возмущения критиков. И только потом пришло признание.Парадокс заключался в том, что пророком и вождем символистов стал поэт, по своей натуре и характеру дарования меньше всего склонный к символизму. О чем речь, можно увидеть на примере одного из самых известных брюсовских стихотворений: Тень несозданных созданий Стихотворение названо «Творчество». Сколько глубокомысленных интерпретаций на его основе было построено, какие проникновения в глубочайшие творческие тайны виделись критикам за этими строчками! Колыхается во сне, Словно лопасти латаний На эмалевой стене. Фиолетовые руки На эмалевой стене Полусонно чертят звуки В звонко-звучной тишине. И прозрачные киоски В звонко-звучной тишине Вырастают, словно блестки, При лазоревой луне. Всходит месяц обнаженный При лазоревой луне… Звуки реют полусонно, Звуки ластятся ко мне. Тайны созданных созданий С лаской ластятся ко мне, И трепещет тень латаний На эмалевой стене. А из противоположного лагеря неслись обвинения в отсутствии здравого смысла. Владимир Соловьев ехидничал: Обнаженному месяцу восходить при лазоревой луне не только неприлично, но и вовсе невозможно, так как месяц и луна суть только два названия для одного и того же предмета. Между тем основа у стихотворения самая тривиально-биографическая. Поэт задремал вечером у печки. Загадочное слово «латания» означает пальму (в данном случае комнатную), а эмалевая стена — это печные изразцы, в которых отражаются пальмовые листья-лопасти: их тени похожи на «фиолетовые руки». Месяц тоже отражается на изразцах в виде «лазоревой луны» — вот оно, возмутившее Соловьева удвоение небесного светила.Короче, никаких символических шарад Брюсов тут не стремился загадывать: он просто образно описал состояние полусна-полуяви, пробуждающее художественное воображение. (Другое дело, что поэтический текст сам по себе является структурой смыслопорождающей…) В плане критических придирок особенно прославилось брюсовское одностишие: «О, закрой свои бледные ноги!» Критик язвительно замечал, что хотя бы это стихотворение имеет несомненный и ясный смысл: Для полной ясности следовало бы, пожалуй, прибавить: „ибо иначе простудишься“, но и без этого совет г. Брюсова, обращенный, очевидно, к особе, страдающей малокровием, есть самое осмысленное произведение всей символической литературы. Нападки Соловьева, однако, привлекли к начинающему поэту внимание публики. И понеслось…Но хотя сам Брюсов был символистом весьма сомнительным, теорию символизма он разработал, попутно разгромив оппонентов. Сторонников доктрины «гражданственности» в искусстве (Некрасов и К°) он сравнил с мальчиком Томом из «Принца и нищего», который колол орехи государственной печатью Англии. «Чистое искусство» (Фет и К°), по мнению Брюсова, предлагает любоваться блеском этой печати; а филология и вовсе подменяет вопрос о предназначении искусства вопросом о генезисе и составе, как если бы ту же печать разложили в алхимическом тигеле. Подлинный смысл искусства, по заявлению Брюсова, — в интуитивном откровении тайн бытия. Между тем этому требованию, по сути, отвечало только творчество «младших символистов» во главе с Блоком, которые — еще один парадокс! — вдохновлялись прежде всего философией и поэзией того самого Соловьева, что так жестоко раскритиковал Брюсова. А вот в лирике Брюсова, как и его сподвижника Бальмонта, никаких особенных «тайн бытия» не наблюдается: символ стал для них только средством словесного искусства. Стихи Брюсова пластичны и скульптурны. Он любит меру, число, чертеж; он интеллектуален и даже рассудочен. По оценке А.Белого, при всей своей тематической пестроте Брюсов неизменен: он лишь проводит свое творчество сквозь строй все новых и новых технических завоеваний. «Он только отделывал свой материал, и этот материал — всегда мрамор». Знавшим Брюсова людям неизменно приходило на ум сравнение с магом. Стройный, гибкий, как хлыст, брюнет в черном сюртуке, со скрещенными на груди руками (типичная его поза), скульптурной лепки лицо, насупленные брови и гипнотические черные глаза… Однако «черный маг», увлекавшийся изучением оккультизма, потомок крепостных «колдуна с Сухаревой башни», сам ни во что иррациональное не верил. В одной из своих заметок он так высказался по этому поводу: В одном знакомом мне семействе к прислуге приехал погостить из деревни ее сын, мальчик лет шести. Вернувшись в деревню, он рассказывал: «Господа-то (те, у кого служила его мать) живут очень небогато: всей скотины у них – собака да кошка!» Мальчик не мог себе представить иного богатства, как выражающегося в обладании коровами и лошадьми. Этого деревенского мальчика напоминают мне критики-мистики, когда с горестью говорят о «духовной» бедности тех, кто не религиозен, не обладает верой в божество и таинства. Интересно, что неспособность к религиозно-мистическим переживаниям сочеталась у Брюсова с нелюбовью к музыке (хотя он свободно читал ноты и умел играть на фортепиано). В этом отношении Брюсов являлся полной противоположностью Александра Блока, в чьих глазах мир был исполнен тайных значений и сакральных смыслов, а музыка становилась способом их постижения. Они двое представляли собой своего рода ИНЬ и ЯН русской поэзии.Лирические герои Брюсова многочисленны и многолики — и это тоже отличает его от Блока (да и от большинства лириков). Но почти всегда это Сильная Личность. В этот же ряд попадает и романтически-отстраненный Поэт — «юноша бледный со взором горящим». Но чаще всего брюсовские гимны Сверхличности вдохновляются легендами. Вот — скифы, вот — халдейский пастух, познавший ход небесных светил; вот в пустыне иероглифы, гласящие о победах Рамзеса; вот Александр Великий, называющий себя сыном бога Аммона; вот Клеопатра и Антоний, Старый Викинг, Дон-Жуан, Мария Стюарт, Наполеон, Данте в Венеции… Оживают герои мифов: Деметра, Орфей и Эвридика, Медея, Тезей и Ариадна, Ахиллес у алтаря, Орфей и аргонавты… Не только сюжет, но само торжественное звучание чеканного стиха создает образы, похожие на медальные профили (недоброжелатели сравнивали брюсовские стихи с паноптикумом восковых фигур): Я — вождь земных царей и царь, Ассаргадон. Склонность поэта к перевоплощению распространялась не только на героев истории. У него есть стихотворения, написанные «от лица» очень неожиданных персонажей: Владыки и вожди, вам говорю я: горе! Едва я принял власть, на нас восстал Сидон. Сидон я ниспроверг и камни бросил в море… «Я — мотылек ночной…» «Я — мумия, мертвая мумия…» «Мы — электрические светы» (именно так, во множественном числе!) «Зимние дымы» («Хорошо нам, вольным дымам…») — и т. д. Эта страсть к метаморфозам предопределила и увлечение переводами. По обилию блестящих переводов Брюсова можно поставить рядом только с Жуковским. Особенно ему удавались переводы с французского, прежде всего — Эмиль Верхарн. Поэта зачаровывает дыхание истории, доносящееся из темной пропасти веков: Где океан, век за веком, стучась о граниты, Для брюсовских супергероев органичны экзотичные декорации: египетские пирамиды, леса криптомерий, безумные баядерки, идолы острова Пасхи…Тайны свои разглашает в задумчивом гуле, Высится остров, давно моряками забытый, — Ultima Thule. Другая тема Брюсова созвучна Бодлеру и Верхарну: мрачная поэзия современного города, его суета, резкие контрасты, электрический свет и кружение ночных теней. …Она прошла и опьянила От этой «Прохожей» Брюсова тянутся нити к блоковской «Незнакомке». Еще до Блока открыл он и тему «страшного мира». Брюсов — певец цивилизации — любил порядок, меру и строй, но был околдован хаосом, разрушением и гибелью. Ощущение близкой опасности вызывало к жизни образы, похожие на смутные, тревожные сны:Томящим запахом духов, И быстрым взором оттенила Возможность невозможных снов. Сквозь уличный железный грохот, И пьян от синего огня, Я вдруг заслышал жадный хохот, И змеи оплели меня. Мы бродим в неконченом здании Поэма «Конь блед» с эпиграфом из Апокалипсиса ведет к пугающей мысли: для современного человечества, завороженного дьявольским наваждением города, нет ни смерти, ни воскресения. Сама ритмика стихотворения производит впечатление грузной механической силы:По шатким, дрожащим лесам, В каком-то тупом ожидании, Не веря вечерним часам. Нам страшны размеры громадные Безвестной растущей тюрьмы. Над безднами, жалкие, жадные, Стоим, зачарованы, мы… Улица была — как буря. Толпы проходили, Если сюда ворвется сам всадник-Смерть, водоворот приостановится лишь на мгновенье: потом нахлынут новые толпы… Безумному кружению призраков суждена дурная бесконечность.Словно их преследовал неотвратимый Рок. Мчались омнибусы, кэбы и автомобили, Был неисчерпаем яростный людской поток… Брюсов стал, возможно, величайшим экспериментатором в области техники русского стиха, использовавшим все возможные формы ритмики и открывшим новые («надобно так уметь писать, чтобы ваши стихи гипнотизировали читателя...»). И тот же импульс к универсальности — в жанрах. Перед читателем, как на параде, проходят элегии, буколики, оды, песни, баллады, думы, послания, картины, эпос, сонеты, терцины, секстины, октавы, рондо, газеллы, триолеты, дифирамбы, акростихи, романтические поэмы, антологии… Как известно, стихотворные размеры в целом делятся на двухсложные и трехсложные. Хотя стопы большей «мерности» тоже существуют, о них обычно не вспоминают. Просто потому, что даже в русском языке трудно найти столько длинных слов, чтобы обеспечить такие размеры. Брюсову — не трудно! Например, пеон — четырехсложный размер. В зависимости от того, на какой слог падает ударение, он бывает четырех типов, которые называются просто по номеру ударного слога. В стихотворении «Фонарики» использован «пеон-второй». Вот несколько строк: Столетия — фонарики! о, сколько вас во тьме, Пеон-третий:На прочной нити времени, протянутой в уме! Огни многообразные, вы тешите мой взгляд... То яркие, то тусклые фонарики горят. Век Данте — блеск таинственный, зловеще золотой... Лазурное сияние, о Леонардо, — твой!.. Большая лампа Лютера — луч, устремленный вниз... Две маленькие звездочки, век суетных маркиз... Сноп молний — Революция! За ним громадный шар, О ты! век девятнадцатый, беспламенный пожар!.. Застонали, зазвенели золотые веретёна, Вообще-то многосложные размеры для нашей поэзии достаточно органичны, но устойчиво связаны с фольклорной традицией — из-за малого числа ударений строчки приобретают характерную распевность. Например, пентон — и вовсе пятисложный размер: ударение стабильно приходится на третий слог из пяти. У А.К.Толстого:В опьяняющем сплетеньи упоительного звона… Кабы зна́ла я, кабы ве́дала, Еще один значимый момент — клаузула (ритмическое окончание). Это число слогов за последним ударным гласным в строчке. Бывают клаузулы мужские (ударение на последний слог в строчке) — например, рифмы «любовь / кровь». Клаузулы женские (на предпоследний) — «время / племя». Дактилические (на третий от конца) — «народное / свободное». И даже гипердактилические (на четвертый): «рябиновые / рубиновые».Не смотре́ла бы из око́шечка Я на мо́лодца разуда́лого, Как он е́хал по нашей у́лице… Для Брюсова не проблема забраться и подальше. Вот начало стихотворения, где ударение приходится на пятый от конца слог: Холод, тело тайно ско́вывающий, Брюсов издал целую книгу — «Опыты по метрике и ритмике, по эвфонии и созвучиям, по строфике и формам». Например, стихотворение, где наблюдается последовательное, через каждые 2 строчки, уменьшение клаузулы — от 6-сложной к нулевой — начинается строчками:Холод, душу очаро́вывающий… От луны лучи протя́гиваются, К сердцу иглами притра́гиваются… Ветки, темным балдахином све́шивающиеся, Другая разновидность игры с метром — разностопность. Пример строфы, где первая строчка — это 3-стопный анапест, вторая — 4-стопный, третья — 5-стопный, 4-я — опять 4-стопный:Шумы речки, с дальней песней сме́шивающиеся… Вся дрожа, я стою на подъезде А тут через строчку чередуются разные размеры: дактиль и амфибрахий. В стиховедении этот редко встречающийся фокус называется «трехсложник с вариациями анакруз»:Перед дверью, куда я вошла накануне, И в печальные строфы слагаются буквы созвездий. О туманные ночи в палящем июне! В мире широком, в море шумящем Нередко Брюсов использует эффект цезуры: в середине строки возникает пауза за счет пропуска одного слога. Ниже — строфа из стихотворения, написанного ямбом, где в каждой строчке аж по 3 цезуры (отмечены значком /):Мы — гребень встающей волны. Странно и сладко жить настоящим, Предчувствием песни полны. Туман осенний / струится грустно / над серой далью / нагих полей, Так же активно работает Брюсов и с фонетикой стиха: аллитерации, ассонансы (повторяющиеся согласные и гласные) — все виды созвучий, которые создают дополнительную гипнотическую напевность. В данном случае это повторы А, Ю и ТА:И сумрак тусклый, / спускаясь с неба, / над миром виснет / все тяжелей, Туман осенний / струится грустно / над серой далью / в немой тиши, И сумрак тусклый / как будто виснет / над темным миром / моей души. Ранняя осень любви умирающей. Ритмические изыски сочетаются с фонетическими:Тайно люблю золотые цвета Осени ранней, любви умирающей. Ветви прозрачны, аллея пуста, В сини бледнеющей, веющей, тающей Странная тишь, красота, чистота… Близ медлительного Нила, / там, где озеро Мерида, / в царстве пламенного Ра, В этом стихотворении использован пеон-третий; двойная цезура сочетается с тройной внутренней рифмой: -ИЛА / -ИДА / -РА; а строфы (из трех строчек) укорачиваются в конце.Ты давно меня любила, / как Озириса Изида, / друг, царица и сестра! И клонила / пирамида / тень на наши вечера… Технические навыки Брюсов усовершенствовал до степени невероятной. Поэт В.Шершеневич вспоминал, что как-то послал ему акростих, в подражание латинскому поэту Авсонию, где можно было прочесть «Валерию Брюсову» по диагоналям и «от автора» — по вертикали. Адресат немедленно ответил стихотворением, в котором по двум диагоналям можно было прочесть «Подражать Авсонию уже мастерство», а по вертикалям — «Вадиму Шершеневичу от Валерия Брюсова». Почему он растрачивал столько сил на подобные ученические опыты? В «Сонете к форме» Брюсов изложил свое кредо: безупречная форма — единственный способ существования для произведения искусства: Есть тонкие властительные связи И сама индивидуальность поэта, по утверждению Брюсова, выражается не в чувствах и мыслях, представленных в его стихах, а в приемах творчества, в любимых образах, метафорах, размерах и рифмах. Не случайно Блок в дарственной надписи на своем сборнике назвал Брюсова «законодателем и кормщиком русского стиха».Меж контуром и запахом цветка. Так бриллиант невидим нам, пока Под гранями не оживет в алмазе. Так образы изменчивых фантазий, Бегущие, как в небе облака, Окаменев, живут потом века В отточенной и завершенной фразе... Еще одна часть наследия Брюсова — проза. Здесь вовсю развернулась его страсть к необычному — археология, экзотика и фантастика. Рассказ «Республика Южного Креста» — антиутопия, написанная еще до замятинского «Мы». Звездный город на Южном полюсе отделен от внешнего мира громадной крышей, всегда освещенной электричеством. В этом разумном муравейнике возникает вдруг эпидемия — мания противоречия. Люди начинают делать противоположное тому, что они хотят. Картины гибели, озверения, массового безумия — традиции Жюля Верна и Уэллса сочетаются здесь с Эдгаром По. Брюсов стремился пересадить на отечественную почву приемы иностранной беллетристики: на него сыпались упреки в дурном вкусе, болезненном декадентском эротизме в духе Лиль-Адана и Бодлера (сборник рассказов «Земная ось»)… Его влекла идея взаимопроникновения иллюзии и действительности, порождающая фантастические метаморфозы во внутреннем мире человека: Нет определенной границы между миром реальным и воображаемым, между „сном“ и „явью“, „жизнью“ и „фантазией“. То, что мы считаем воображаемым, — может быть высшая реальность мира, а всеми признанная реальность — может быть самый страшный бред. Отличительная особенность брюсовской прозы — сочетание рассудочности и иррациональности, логики и абсурда, местами смутно напоминающее будущие «культурологические детективы» Умберто Эко.Роман «Огненный Ангел был встречен критикой с холодным недоумением: ни под один из существовавших в русской литературе жанров он не подходил. Для исторического романа он был слишком фантастичным, для психологического — слишком неправдоподобным. Содержание романа автор исхитрился втиснуть в «полное название», стилизованное под старинную манеру синопсисов: „Огненный Ангел“, или правдивая повесть, в которой рассказывается о дьяволе, не раз являвшемся в образе светлого духа одной девушке и соблазнившем ее на разные греховные поступки, о богопротивных занятиях магией, гоетейей и некромантией, о суде над оной девушкой под председательством его преподобия архиепископа Трирского, а также о встречах и беседах с рыцарем и трижды доктором Агриппою из Неттесгейма и доктором Фаустом, записанная очевидцем. По затейливости роман напоминает одновременно «Эликсиры сатаны» Гофмана и «Саламбо» Флобера. Запутанный авантюрный сюжет, приключения и мистика соединяются в нем с педантической «научностью» и многочисленными примечаниями: Брюсов не впустую хвалился, что сведущ в оккультных науках. Они служат созданию глубины и вносят ноту иронического остранения. Пересказ «Огненного ангела» может создать иллюзию (но только иллюзию!), будто это роман «вальтерскоттовского» типа. Кельн, XVI век. Главный герой Рупрехт, гуманист и воин, возвращается из Америки, где провел пять лет. На дороге, в одинокой гостинице, он знакомится с красавицей Ренатой. Когда Рената была ребенком, к ней явился огненный ангел Мадиэль и обещал вернуться снова в человеческом образе. И через несколько лет появился белокурый граф Генрих фон Оттергейм, который увез Ренату в свой замок. Но вскоре Генрих исчез, а Ренату стали терзать злые духи. Рупрехт становится спутником Ренаты в поисках графа Генриха; со временем девушка проникается к Генриху жгучей ненавистью и требует от Рупрехта, чтобы он за нее отомстил. Под ее влиянием герой начинает заниматься магией (тут и сцены полета на шабаш, и вызов дьявола, и книги по демонологии). Затем в сюжет врываются Агриппа Неттесгеймский, а также доктор Фауст и Мефистофель… Роман подсвечен неслабыми психологическими амбициями. В натуре Ренаты воспаленное воображение, мистицизм, вырастающий из сознания греховности и жажды искупления, бесплодное стремление к святости и неутолимая потребность в любви превращены в патологические симптомы. На этом примере иллюстрируется феномен истерии средневековых ведьм. Вдобавок этот закрученный сюжет наложен на реальный «любовный треугольник» из биографии автора, где роль Рупрехта досталась самому Брюсову, а Ренатой и графом Генрихом стали поэтесса Нина Петровская и писатель-символист Андрей Белый. (Любовные истории, как правило трагические, тянулись за Брюсовым всю его недлинную жизнь, будто в нем действительно было что-то «роковое».) За «Огненным ангелом» последовал роман из римской жизни — «Алтарь Победы», впрочем, тоже не имевший успеха. Традиционно поэты тяготели к греческой культуре в противовес «великодержавным» варварам-римлянам, а вот Брюсова живо интересовали именно римляне. Он сам признавался, что существуют миры, для него внутренне закрытые, — прежде всего мир Библии; что ему близка Ассирия, но не Египет, а Греция интересна «лишь постольку, поскольку она отразилась в Риме». Хотя Брюсова и влекла психология людей «рубежа», поэт М.Волошин в своих воспоминаниях отмечал, что ему был чужд изысканный эстетизм и утонченный вкус культур изнеженных и слабеющих: «В этом отношении никто дальше, чем он, не стоит от идеи декаданса»… Это наблюдение подтвердилось. Добившись всеобщего признания как лидер русского символизма, Брюсов без сожаления оставил эту роль, объявив, что периоды «порывов» и «революций» в сфере творчества — только база для обновления классического академизма. Ему было скучно стоять на месте — даже на месте вождя бунтарей: Брюсов рвался вперед, жадно хватаясь за все новое. Так, например, в 1916 году он увлекся армянской культурой, за полгода выучил язык и проглотил огромное количество книг по теме, читал лекции в Тифлисе, Баку, Эривани… Результатом стал выход антологии «Поэзия Армении с древнейших времен до наших дней», составленной из переводов крупнейших русских поэтов, которых Брюсов привлек к работе (в том числе, разумеется, и переводов самого Брюсова), под его же редакцией. «Поэзия Армении…» и до сего дня считается эталоном жанра и переиздается в неизменном составе. Не удивительно, что Брюсов с его жаждой постоянного обновления жизни оказался среди тех немногих, кто после революции сразу признал советскую власть. Также не удивительно, что его поступок объясняли с самых разных точек зрения, в диапазоне от «понял и принял» до «продался». Неуязвимой для сомнений остается только причина, указанная самим поэтом: «Что бы нас ни ожидало в будущем, мы должны пронести свет нашей национальной культуры сквозь эти бури…». Он сделал все, что смог, — за оставшиеся ему несколько лет. Заведовал отделом научных библиотек Наркомпроса, Московской Книжной палатой, организовал и возглавил Литературный отдел при Наркомпросе, а затем — Высший литературно-художественный институт, который в обиходе называли «Брюсовским»: на его базе позднее был создан современный Литературный институт им. Горького. Огромные силы Брюсов вложил в чтение лекций, в труды по пушкинистике и по технике стиха, издательскую и редакторскую работу... И, конечно, он продолжал писать стихи, где все явственнее проступала «научная» тема: «электроплуг, электротраллер — чудовища грядущих дней», мир атомов и электронов, мечты о космических полетах… Наука нового века была близка Брюсову пафосом завоеваний, демонстрацией бесконечного богатства мира. Он сгорел быстро — в 50 лет. И оставил после себя очень много. Добрая четверть наследия Брюсова не издана еще и сегодня, кое-что опубликовано спустя десятки лет после его смерти. (Так случилось, например, с трагедией «Диктатор», написанной в 1921 году, — она была отклонена как идеологически ложная: «в социалистическом государстве не может быть почвы для появления диктатора». Пьеса вышла в свет только с началом перестройки.) Крупнейший русский стиховед, М.Л.Гаспаров, писал о Брюсове: Его можно не перечитывать, его можно осуждать за холодность и сухость, ему можно предпочитать Блока, Маяковского, Есенина, Пастернака... Но нельзя не признавать, что без Брюсова русская поэзия не имела бы ни Блока, ни Пастернака, ни даже Есенина и Маяковского — или же имела бы их неузнаваемо иными. Миновать школу Брюсова было невозможно ни для кого. Героем собственных стихов — и известного врубелевского портрета — предстает Брюсов в строках своего пожизненного друга и соперника Андрея Белого: У ног веков нестройный рокот, катясь, бунтует в вечном сне. И голос ваш — орлиный клекот — растет в холодной вышине. В венце огня, — над царством скуки, над временем вознесены, — застывший маг, сложивший руки, пророк безвременной весны. Свернуть сообщение Показать полностью
21 Показать 6 комментариев |
|
#даты #литература #поэзия
100 лет со дня рождения польской поэтессы: ВИСЛАВА ШИМБОРСКА (2.07.1923 – 1.02.2012) — лауреат Нобелевской премии по литературе 1996 года, с формулировкой: «За поэзию, которая с предельной точностью описывает исторические и биологические явления в контексте человеческой реальности». Ниже — три характерных стихотворения Шимборской (верлибры). Перевод с польского Н.Астафьевой. 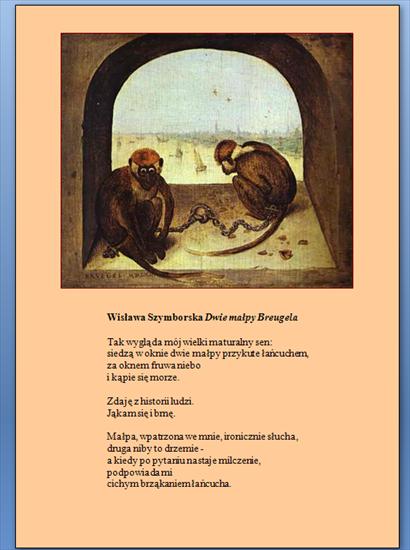 ДВЕ ОБЕЗЬЯНЫ БРЕЙГЕЛЯ Таков мой вечный экзаменационный сон: в окне сидят две обезьяны, скованные цепью, а за окном плещется море и порхает небо. Сдаю историю людей. Плету и заикаюсь. Глядит с иронией одна из обезьян, другая как бы спит в оцепененье; когда же на вопрос молчу, замявшись, я, она подсказывает мне Показать полностью
13 Показать 2 комментария |
|
#картинки_в_блогах #времена_года
 Колин У. Бёрнс (род 1944). Сады Виктория-Тауэр Виктория Тауэр Гарденс — лондонский общественный парк, расположенный между северной набережной Темзы и Вестминстерским дворцом. Юго-западным углом дворца как раз и является Башня Виктории, видная на заднем плане картины (чуть дальше — Биг Бен, само собой). А круглая постройка ближе к зрителю — мемориальный фонтан Бакстона (имя заказчика), возведенный в честь Акта 1833 года об отмене рабства на территориях, управляемых Британской империей. Это тихий уголок в самом сердце огромной столицы. Показать полностью
18 Показать 8 комментариев |
|
чужие #стихи #поэзия
Просто красивое стихотворение, которого не было в Сети. Теперь будет. Визма Белшевица КОЛЫБЕЛЬНАЯ БОЛЬШОМУ РЕБЕНКУ Когда ты не спишь, летучая мышь, Когда ты, летучий мышонок, не спишь, Когда ты в зигзагах изломанных крыльев Тревожно мелькаешь, летучая мышь, В его ли окошко ты прянешь, К его ли постели присядешь? Или ты знаешь, что это нельзя, Летучая мышь, некрасивая мышь? Когда ты не спишь, осиновый лист, Не можешь заснуть, осиновый лист, Когда ты дрожишь и срываешься с ветки, И, с ветки сорвавшись, летишь на ветру, К его ли губам ты приникнешь, К его ли щеке ты прижмешься? Или ты знаешь, что это нельзя, Лист одинокий, осиновый лист? Когда мы не можем заснуть по ночам, Когда мы ночами никак не заснем, Камыш ворошим и бродим по травам, Чтоб лучшие сны отыскать для него, И сыплем их в щели ставней, Впускаем в тиxyю спальню, Их можно под голову положить, Ведь это сны не о нас. Когда отблагоухает сон, Последний сон в бессонном цветке, Проснется спящий и след увидит В росистом саду под его окном. Но яблони не нашепчут ему И далии не расскажут ему, Что была у женщины мышь на плече, А в руках осиновый лист. Пер. с латыш. Д.Самойлова На стихи В.Белшевицы Р.Паулс написал песню «Не могу уйти» (1978), которую мы больше знаем по стихам (не перевод) Р.Рождественского: «Как много лет во мне любовь спала». На латышском языке в исполнении Мирдзы Зивере: https://youtu.be/fLWD_JVMwCc На русском языке в исполнении Ольги Пирагс: https://youtu.be/bxLTxXgVxIM Свернуть сообщение Показать полностью
8 Показать 4 комментария |
|
#картинки_в_блогах #времена_года
 Кохо Сёда (1871–1946 или 1875–1925). Лунный свет Мало о ком из художников нового времени сохранились настолько скудные сведения: спорят даже о датах его жизни. Собственно, единственная информация — имя издателя, печатавшего его гравюры: Нисиномия Ёсаку. А представление о личности Кохо Сёда дают лишь сами его работы: поэтичные, немного меланхолические женские портреты — и особенно пейзажи, преимущественно ночные и сумеречные. Тон. Тон. Тон. — Отворите дверь. — Кто так тихо стучит? — Это я — кленовый лист. Тон! Тон! Тон! — Отворите дверь! — Кто так громко стучит? — Это я — горный ветер. Тон… Показать полностью
34 Показать 2 комментария |
|
#картинки_в_блогах #времена_года
 Николай Александрович Сергеев (1855-1919). Сад Уроженец Харькова, ученик известного пейзажиста Л.Ф.Лагорио, Николай Сергеев пользовался успехом и у публики, и у критики. Он принимал участие в организации Санкт-Петербургского Общества художников, а в 1910 г. был удостоен звания академика по классу пейзажной живописи, несмотря на то, что не получил никакого формального «профобразования». Своим художественным кредо Сергеев объявлял два взаимодополняющих принципа: верность натуре (анализ) и обобщающая эмоция (синтез): Показать полностью
19 Показать 2 комментария |
|
#картинки_в_блогах #времена_года
 Эйвинд Эрл (1916–2000). Воспоминание о Санта-Инес Автор картины (Санта-Инес — это название долины и горного хребта в Калифорнии) — художник, много лет сотрудничавший с компанией Уолта Диснея. Именно Эйвинд Эрл создал концепт-арты «Питера Пэна» (1953), «Леди и Бродяги» (1955) и был ведущим стилистом «Спящей красавицы» (1959). Режиссеры-аниматоры возмущались: они привыкли видеть в центре внимания свою работу, а тщательно разработанные фоны Эрла оттягивали зрительский взгляд на себя. Но Дисней твердо стоял на своем, хотя это был беспрецедентный шаг — поручить одному художнику полный контроль над визуальным стилем фильма. В своих работах Эрл творчески использовал стиль готики, японских гравюр и персидской миниатюры. Показать полностью
13 |
|
#ex_libris #литература #поэзия
Роман Луи Арагона «Страстная неделя» (1958) описывает семь мартовских дней 1815 года. Король Людовик XVIII бежал; во Францию вступает Наполеон и его Сто дней. Водоворот событий захватывает художника (и по совместительству мушкетера бежавшего короля) — тогда еще мало кому известного Теодора Жерико, который поневоле становится действующим статистом на театре политической истории. Жерико, как и прочие герои «Страстной недели», пытается — изнутри целой лавины событий — понять происходящее; но в сумятице фактов и слухов рассыпаются не только старые представления о вещах и людях: теряются из виду привычные понятия о долге, ориентиры для «правильного» выбора. Должен ли Жерико, — который, в сущности, всегда хотел только писать картины, — бежать вместе с королем, которого, похоже, интересует не столько судьба Франции и народа, сколько шансы на сохранение собственной власти? Что будет для героя в этом случае предательством — бежать или остаться, в призрачной надежде, что возвращение Наполеона будет благом для страны, что император сделал выводы из прошлых своих ошибок? Революция смела абсолютизм, но установила террор. Наполеон положил конец террору, но заменил его личной диктатурой и оставил стране только «раны да залоснившиеся мундиры». Реставрация Бурбонов «не оживила коммерции и не уменьшила нищеты»: по известной формуле, они ничего не забыли и ничему не научились. Вот и все, что ясно для Жерико. Что он — лично он — должен делать, чего желать? Множество действующих лиц заднего плана: одни озабочены надвигающимся разорением, другие — угрозой новой 20-летней эмиграции (только год, как вернулись из старой!), третьи лихорадочно гадают — кому присягнуть? кто удержится на троне? А еще дальше, за теми, кто тревожится о поместьях, орденах и титулах, — так называемый простой народ, которому надо хотя бы выжить… Хотя почти все персонажи — реальные люди, «Страстная неделя» не позиционируется Арагоном как исторический роман. Он предупреждает, что события здесь вымышлены, а совпадения случайны, и предостерегает также от оценки героев с современных моральных позиций. Целью писателя было передать состояние человека, чувствующего себя пресловутой паскалевской тростинкой на жестоком ветру истории. В этом плане «Страстная неделя» напоминает «Белую гвардию» Булгакова (хотя в остальном они совершенно несхожи). В СССР к Арагону всегда относились тепло: он был активным «левым», более того — членом ФКП. Но зрелость писателя пришлась на годы второй мировой войны, когда историческое время уже ускорилось до невиданного ранее темпа, когда все менялось на глазах, — и в итоге Арагон приходит к выводу, что «идеи и развевающиеся стяги — это только ширма… Социальные преобразования происходят не совсем так, как представляется это непосредственному воображению умов пророческих, склонных все видеть под углом зрения утопии, без тех поправок, которые так решительно вносит действительность». Эмоциональный лейтмотив «Страстной недели» — беспрестанный холодный дождь, ветер, раскисшие дороги, чувство потерянности… И единственная надежда — что страстная неделя кончится в свой срок. Это настроение отражено и в лирике Арагона. Одному из таких стихотворений поэт дал выразительное название — «Кавардак на слякоти» (1942): Что за чертово время у нас на земле! Так чудит, точно спутало Ниццу с Шатле. Берег моря с его Променад дез Англе Крайне выглядит странно. Едет грязный обоз, на прохожих пыля, Люди голые ищут себе короля, Люди в золоте мерзнут, как мерзнет земля. Девка ждет хулигана. Птичьи головы вертятся, как флюгера. Продаю. Козыряю девяткой. Игра! Вы бы шли в монастырь, дорогая сестра: Не к лицу вам подмостки. Все слова — точно эхо, упавшее в гроб. Море зелено, точно фасолевый боб, И «Негреско», попав под холодный потоп, Стал бесцветней известки. Что за чертово время! Валит без дорог! Март чихает, и на небо светлый клочок Ассигнацией тысячефранковой лег, Принял синий оттенок. Бедный Петер Шлемиль, что же с тенью твоей? Для чего ты запрятал ее от людей? Иль какой-то тебя соблазнил чародей Тень продать за бесценок? Что ж ты, изгнанный чертом с земли, со стены, Ищешь новую тень на дорогах страны, Ты, блуждающий символ ужасной весны Сорок первого года! Ну и время! Часам перепутало счет, Жен спровадило вон иль пустило в расход И твердит, будто волки — любезный народ И добра их порода. Ну и чертово время! Без ордера нет Ни житья, ни рубашки простой, ни конфет. Забирай колбасу, если ищешь букет, Хохочи, если мало! Ну и чертово время! Все в мире — как дым! Прежний друг обернулся врагом, и каким! Черный кажется белым, хороший — плохим, И запретов не стало. Пер. с франц. В.Левика Свернуть сообщение Показать полностью
14 |
|
#даты #литература #поэзия #длиннопост
И через месяц после Достоевского — …200 лет со дня рождения Н.А.Некрасова У поэзии Некрасова странная судьба. Его поэтической репутации больше повредили не нападки врагов (которых было много), а панегирики друзей, готовых восхищаться его стихами «за направление», невзирая на якобы слабую их форму. Такое мнение (а заодно и противопоставление Пушкину) находило опору и в скромной некрасовской автохарактеристике: Твои поэмы бестолковы, Правда в том, что Некрасов был поэтом неровным: у него можно найти все — и откровенно слабые стихи, и шедевры.Твои элегии не новы, Сатиры чужды красоты, Неблагородны и обидны, Твой стих тягуч. Заметен ты, Но так без солнца звезды видны… Нет, ты не Пушкин… Накануне его столетнего юбилея среди поэтов провели опрос: «Ваше отношение к Некрасову?» Результат оказался неожиданным. «Малохудожественного» Некрасова ценили как раз эстеты: Блок, Ахматова, Гумилев, Вяч. Иванов — а пролетарские поэты (Маяковский, Асеев) были к нему равнодушны. Детство Некрасова прошло в родительском имении Грешнево Ярославской губернии. Отец был человеком деспотичным и недобрым; мать и сестра — две единственные сердечные привязанности детства будущего поэта. Обеих он потерял рано. Тему «русских женщин», культ материнского женского начала Некрасову довелось утвердить в русской поэзии, не дождавшейся этого от его великих предшественников и современников. Грешнево стояло на трактовой ярославско-костромской дороге. Называли ее Владимиркой, а также Сибиркой. По ней неслись тройки и шли в каторгу кандальники. Невдалеке раскинулась Волга, а по ее берегу с унылой песней брели бурлаки. Такими впервые предстали мальчику два ключевых русских образа — дорога и река. Хорошего образования Николай не получил: в Ярославской гимназии учили мало и плохо. Он мечтал об университете, но отец не хотел слышать ни о чем, кроме кадетского корпуса. В 1838 г. юноша уехал в Петербург — с твердым намерением поставить на своем. Он пытался поступить в университет трижды: на факультет восточных языков, на юридический, на философский... Но перед ним стоял непреодолимый барьер из 14-ти вступительных экзаменов, включая логику, географию, статистику, 4 иностранных языка, — все это нужно было знать еще ДО поступления в университет. Не имевший систематической подготовки Некрасов неизменно проваливался почти по всем предметам. И потянулась темная полоса его жизни. Отношения с отцом были разорваны, денежной поддержки он лишился. Три года он голодал, мерз; после перенесенной горячки квартирохозяин, которому он задолжал, выбросил его на улицу, отобрав все вещи. Нищие подобрали юношу и отвели в ночлежку. Питался он на редкие копеечные заработки, а то еще в трактирчике на Морской, где на столах стояли хлебницы — и можно было, прикрываясь газетой, прихватить кусок-другой. И все же он выжил. Больше того — пробился. Все знавшие Некрасова отмечали его редкостный ум, энергию и практическую хватку. Он стал знаменитым поэтом, редактором влиятельнейшего русского журнала, наконец, богатым человеком. Но впечатления детства и юности не покидали его всю жизнь. Некрасов, писавший о горькой участи бедноты, в отличие от своих предшественников, писал о том, через что прошел он сам. «Школьный» Некрасов — прежде всего певец страданий народа. Но это только часть его лирики, и даже в этой теме Некрасов — разный. Есть у него Россия природная, деревенская, глубинная — и Россия столичная, вечно пребывающая в волнении: В столицах шум, гремят витии, Раньше у поэтов крестьянская жизнь подавалась общим планом. Пушкин видит, как «рабство тощее влачится по браздам» — образ чисто абстрактный; Лермонтов с едущей проселком телеги наблюдает «дрожащие огни печальных деревень»; «бедные селенья» видит Тютчев — не более того.Кипит словесная война, А там, во глубине России — Там вековая тишина… В некрасовскую лирику вторгается крупный план: гнутся к земле тяжелые колосья, над жницей в раскаленном полуденном воздухе колышется столб насекомых, рабочий на строительстве железной дороги долбит ржавой лопатой мерзлую землю… Но в деревенской лирике есть и отрадные картины. Они посвящены молодости, любви, будущему, суровой поэзии крестьянского труда: «Крестьянские дети», «Школьник», «Зеленый Шум»… В «Размышлениях у парадного подъезда»: Раз я видел, сюда мужики подошли, Неожиданное и вроде бы излишнее пояснение (мужики — «деревенские русские люди») возвращает слову его исконно эпическое, торжественное содержание.Деревенские русские люди… Светлое и горестное существуют в крестьянской жизни рядом. Шестилетний «мужичок с ноготок», ведущий лошадку, чувствует себя опорой семьи. Это и забавно, и печально, и внушает уважение. (Некрасов, вообще много средств тративший на поддержку нуждающихся, на свои деньги открыл и содержал на родине школу для крестьянских детей.) А вот городская лирика, в отличие от деревенской, почти сплошь безотрадна. Пушкинский «город пышный, город бедный» Некрасову виден только в невыгодном ракурсе. Жизнь огромной столицы, сосредоточенная большей частью в фиктивном «бумажном» мире, безосновна, лишена корней. На смену эпической повествовательности приходит мозаика отрывочных кадров. Цикл «На улице»: голодный оборванный вор, пойманный с украденным калачом; проводы молодого рекрута; солдат с детским гробиком под мышкой… «О погоде» — калейдоскоп мелькающих картин, который складывается в гнетущий образ нищеты, отчаяния, смерти, окутанных мрачным петербургским туманом: Ах, еще бы на мир нам с улыбкой смотреть! Петербург Некрасова — лирическая версия Петербурга Достоевского. Знаменитый сон Раскольникова про избиваемую лошадь навеян впечатлением от цикла «О погоде». Раскольников, в сущности, видит во сне стихотворение Некрасова:Мы глядим на него через тусклую сеть, Что как слезы струится по окнам домов, От туманов сырых, от дождей и снегов!.. Надо всем, что ни есть: над дворцом и тюрьмой, И над медным Петром, и над грозной Невой, До чугунных коней на воротах застав (Что хотят ускакать из столицы стремглав) — Надо всем распростерся туман. Душный, стройный, угрюмый, гнилой, Некрасив в эту пору наш город большой, Как изношенный фат без румян… Под жестокой рукой человека, Эта сцену, где сгустилась вся боль, весь ужас и зло жизни, до самой смерти не мог забыть Достоевский. Иван Карамазов, предъявляющий Богу счет за мировое страдание, вспомнит ее снова: «У Некрасова это ужасно».Чуть жива, безобразно тоща, Надрывается лошадь-калека, Непосильную ношу влача. Вот она зашаталась и стала. «Ну!» — погонщик полено схватил (Показалось кнута ему мало) — И уж бил ее, бил ее, бил! Ноги как-то расставив широко, Вся дымясь, оседая назад, Лошадь только вздыхала глубоко И глядела… (так люди глядят, Покоряясь неправым нападкам). Он опять: по спине, по бокам, И, вперед забежав, по лопаткам И по плачущим, кротким глазам!.. В «Утре» поэт из лаконизма извлекает не менее сильный художественный эффект, чем из развернутых описаний. Отстраненное, констатирующее перечисление превращает гнетущее, страшное — в привычно-заурядное: Проститутка домой на рассвете И другая тема, разработанная еще до Гюго и Достоевского, появилась в городской лирике Некрасова: страшная участь женщины. «Еду ли ночью по улице темной…», при всей мелодраматичности, относят к числу лучших созданий поэта, хотя подобное нагнетание мучительных деталей виделось бы безвкусным и фальшивым, если бы к нему прибег человек, не знающий на собственном опыте, что значит умирать от голода и холода, не иметь ни пристанища, ни друзей.Поспешает, покинув постель; Офицеры в наемной карете Скачут за город: будет дуэль... Дворник вора колотит — попался! Гонят стадо гусей на убой; Где-то в верхнем этаже раздался Выстрел — кто-то покончил с собой… Есть у Некрасова и любовная лирика, очень импульсивная и драматичная. Новое здесь — в том, что часто называют «прозой любви»: способность видеть наряду с поэтической стороной чувства его изнанку — утомление, приливы охлаждения и разочарований, порывы к самоутверждению, мучительство… Тут ближайший аналог Некрасова в прозе — Достоевский, а в поэзии — Тютчев. «Панаевский цикл» выглядит своеобразным романом, историей любви в стихах. Грозовые дни чувства в его цветении, жестокая, испытующая любовная игра, расставания и возвраты, когда обоим уже ясно, что допиваются последние капли: …Не торопи развязки неизбежной! И опять возвращение иллюзий, и снова разрыв, и сожаления об утрате, и раскаяние. Наконец холодное, ироническое обобщение показывает, что любовь умерла — единственная Она стала одной из многих:И без того она не далека: Кипим сильней, последней жаждой полны, Но в сердце тайный холод и тоска… Так осенью бурливее река, Но холодней бушующие волны… О слезы женские, с придачей И свое чувство, и себя герой видит уже со стороны, в безжалостном трезвом свете рассудка. Истеричная женщина, малодушный мужчина, мечтающий о покое хотя бы ценой лицемерия. — «В лице своем читает скуку / И рабства темное клеймо», — никто из русских поэтов до Некрасова не посчитал возможным говорить об этом мутном и горьком осадке на дне любовной чаши.Нервических, тяжелых драм! Вы долго были мне задачей, Я долго слепо верил вам И много вынес мук мятежных, Теперь я знаю наконец: Не слабости созданий нежных — Вы их могущества венец. …………………………… Зачем не мог я прежде видеть? Ее не стоило любить, Ее не стоит ненавидеть, О ней не стоит говорить. Некрасов — мастер типов. В его стихах впервые появились те «герои времени», которых позднее опишут Островский, Тургенев, Гончаров. Например, в поэме «Саша» уже просматриваются контуры «Рудина». Характеристика героя уместилась в полсотни строк: человек умный, красноречивый, увлекающийся — но неустойчивый и слабый. Всё, что высоко, разумно, свободно, В «Рыцаре на час» прорываются «автопсихологические» мотивы. Страдания героя — от того, что глубоких чувств, благородных мыслей и намерений больше в его душе, чем сил сражаться до конца:Сердцу его и доступно и сродно, Только дающая силу и власть В слове и в деле чужда ему страсть. …Что ему книга последняя скажет, То на душе его сверху и ляжет: Верить, не верить — ему всё равно, Лишь бы доказано было умно!.. Что враги? пусть клевещут язвительней — Собственный внутренний голос осуждает героя куда суровее, чем это сделали бы враги и друзья.Я пощады у них не прошу, Не придумать им казни мучительней Той, которую в сердце ношу! Что друзья? Наши силы неровные, Я ни в чем середины не знал, Что обходят они, хладнокровные, Я на все безрассудно дерзал… Покорись, о ничтожное племя, Малодушие виделось Некрасову психологическим изъяном личности, сформировавшейся в эпоху террора:Неизбежной и горькой судьбе! Захватило вас трудное время Не готовыми к трудной борьбе. Вы еще не в могиле, вы живы, Но для дела вы мёртвы давно, Суждены вам благие порывы, Но свершить ничего не дано. На всех, рожденных в двадцать пятом Даже выдающийся человек рискует увязнуть в пошлости, в болоте вынужденных жизнью компромиссов. Пусть причина их в беспокойстве о других, не о себе — так или иначе, это падение. «Не рыдай так безумно над ним, / Хорошо умереть молодым!..» — вырвалось у Некрасова, когда погиб Писарев.Году иль около того, Отяготел жестокий фатум: Не выйти нам из-под него. Я не продам за деньги мненья, Без крайней нужды не солгу… Но — гибнуть жертвой убежденья Я не могу… я не могу… …Перед ним преклониться не стыдно, Сочетание «герой времени» обычно пишется в кавычках. Герои без кавычек у Некрасова тоже есть: старый декабрист в поэме «Дедушка», Трубецкая и Волконская в «Русских женщинах»…Вспомни, сколькие пали в борьбе, Сколько раз уже было тебе За великое имя обидно!.. Изобильная, счастливая жизнь затерянного за Байкалом селения, быт которого преобразуют ссыльные декабристы, предстает у Некрасова своего рода утопией на историческом материале: «Воля и труд человека / Дивные дива творят». Она образует резкий контраст с картинами крепостной России. В тяжелый час на что может такая страна рассчитывать, на кого опереться? Красноречивым воззваньем А вот героем современности Некрасов видит прежде всего поэта.Не разогреешь рабов, Не озаришь пониманьем Темных и грубых умов. Поздно! Народ угнетенный Глух перед общей бедой. Горе стране разоренной, Горе стране отсталóй! Но тема поэта и поэзии у Некрасова движется в двух расходящихся руслах. Когда его предшественники писали о поэте-пророке, они писали о себе. Пророк в пушкинском «Пророке» — это сам Пушкин. В лермонтовском — Лермонтов. У Некрасова самоотождествление с героем-поэтом происходит лишь там, где он предстает в образе «героя времени» — подверженного сомнениям, слабости, ошибкам. Поэт-пророк — это стихотворения о других: о Шиллере, Гоголе, Шевченко, Белинском, Добролюбове, Чернышевском (понятие «поэт» трактуется широко). И почти во всех случаях это, увы, некрологи… Участь поэта-гражданина, проповедующего любовь «враждебным словом отрицанья», противопоставлена отрадному уделу «незлобивого поэта» и становится всё трагичнее: Со всех сторон его клянут — Пушкинский «Пророк» заканчивается призывом «жечь сердца». У Лермонтова — второй акт этой драмы: пророка изгоняют в пустыню, провожая насмешками и проклятиями. А у Некрасова —И только труп его увидя, Как много сделал он, поймут, И как любил он, ненавидя! Его еще покамест не распяли, Но это стихотворение посвящено Чернышевскому. Для себя Некрасов не сооружает в стихах памятников и не воздвигает распятий, во всяком случае таких, которые наводили бы на торжественные аналогии. Пушкин не сомневается, что слух о нем «пройдет по всей Руси великой», Некрасов говорит о том же народе: «Быть может, я умру, неведомый ему…».Но час придет — он будет на кресте; Его послал Бог Гнева и Печали Рабам земли напомнить о Христе. В до-некрасовской лирике поэт и толпа противостояли друг другу. Некрасов же чувствует себя причастным к ней — именно к толпе, а не к народу: к ее пошлости, низости, духовному рабству. Зачем меня на части рвете, Умирать для того лишь, чтоб «им яснее доказать, / Что прочен только путь неправый» — бессмысленно, а «жить в позоре» — невыносимо тяжело.Клеймите именем раба?.. Я от костей твоих и плоти, Остервенелая толпа!.. Откуда взялись эти мрачные чувства? «Современник», редактором которого Некрасов состоял много лет, был изданием леворадикальным. Причем существующим в условиях цензуры. От редактора требовалось лавировать, поддерживать знакомства с «полезными» людьми, к которым Некрасов часто не питал никаких симпатий. В журнале сотрудничали известные писатели и критики — каждый с собственными устремлениями и амбициями. Их отношения тоже приходилось улаживать, и не всегда это получалось. Некрасов нажил много врагов. А тот образ жизни, к которому вынуждало его положение (многочисленные знакомства, карточная игра, крупные суммы денег, проходившие через его руки), давал им обильный материал для нападок и клеветы, прекрасно подтверждавших изречение Лихтенберга: «Высшее, до чего может подняться мелкий человек, — это найти, чем попрекнуть тех, кто лучше его самого». Поэт очень страдал от этого. Но ради дела он жертвовал и покоем, и той легкой славой, которой мог бы спокойно достичь со своим талантом, и обратился к злобе дня, не рассчитывая, что о нем будут помнить потомки: «Я умру — моя померкнет слава…» …ей долгим, ярким светом Но хуже всего оказалось то, что случилось в 1866 году.Не гореть на имени моем — Мне борьба мешала быть поэтом, Песни мне мешали быть бойцом. После покушения Каракозова на Александра II правительство стало спешно «наводить порядок». «Современник», уже имевший цензурные взыскания, очутился на пороге закрытия. Пытаясь спасти журнал, Некрасов поехал на торжественный обед в честь графа Муравьева, на которого в основном эту миссию наведения порядка и возложили. Это был владелец пресловутого дома с парадным подъездом, находившегося напротив квартиры Некрасова на Литейном (где сейчас музей поэта). Незадолго перед тем Муравьев подавил польское восстание, заслужив при этом прозвище «Вешатель». И ему-то Некрасов прочел хвалебную оду, рассчитывая этим жестом лояльности спасти свой журнал. Ода не помогла: «Современник» запретили. Зато Некрасова осудили все — и дружно: «Ликует враг, молчит в недоуменье / Вчерашний друг, качая головой…». Он рискнул своей репутацией, полагая, что это оправдано надеждой сохранить для публики единственный уже, по сути дела, идеологически независимый журнал. Не сделай он такой попытки, его, наверное, тоже бы осуждали. Но тяжелее всего было не улюлюканье и попреки, а раскаяние: он не мог простить сам себе. Практически сразу Некрасов понял свою ошибку: поэт, на которого русское общество привыкло смотреть как на свою совесть, — в этом качестве он был и предметом восхищения, и объектом ненависти, — этот поэт не имел права лгать в своих стихах. Тут была та грань компромисса, которой не следовало преступать. В своем лице Некрасов подорвал веру в саму поэзию, в ее искренность, высокое назначение. Отсюда в его поздней лирике — надрыв и трагедия, чувство тяжкой вины, которую в представлении поэта уравновесить могла только неугасающая любовь к «родной стороне»: За то, что я, черствея с каждым годом, Умирал Некрасов от рака, долго и тяжело. Последний прижизненный сборник стихов так и назван — «Последние песни»: поэт уже знал, что других не будет. Картина Крамского запечатлела его в работе над этими песнями: он лежит на диване, исхудавший, с изжелта-бледным лицом, в тон простыням. Ее умел в душе моей спасти, За каплю крови, общую с народом, Мои вины, о родина! прости!.. Смерть оборвала работу над поэмой «Кому на Руси жить хорошо». Она пополнила список ключевых текстов русской литературы, которые остались незаконченными или имитируют незаконченность: «Евгений Онегин», «Мертвые души», «Война и мир», «Братья Карамазовы»… Когда-то ее трактовали как поэму революционную, за счет аксиоматических отождествлений: Некрасов = Гриша Добросклонов, «рать неисчислимая» = восставший народ и пр. Хотя даже чисто психологически трудно представить, чтобы поэт на краю могилы звал Русь к кровопролитию. Вопрос, который поставил Некрасов, одновременно и простой, и трудный. Русь после реформы. Почему она не изменилась по существу? И сложный вопрос высказан устами мужиков, с намеренной простотой: «Кому живется весело, вольготно на Руси?» Фольклорная утопия — сказочная страна молочных рек и кисельных берегов. «Покой, богатство, честь» — благополучие и достаток. Кто же может почитать себя таким счастливцем в новой Руси? Некрасовские мужики называют шесть кандидатур: помещик, чиновник, поп, купец, министр и царь. С каждым из них они по замыслу поэта, должны были встретиться — даже с царем, во время охоты. Но встречи состоялись только с попом и помещиком. Всё прочее так и осталось в набросках. Вероятно, ответ на вопрос, таким образом поставленный, виделся слишком уж очевидным. Сельский поп со своей нищей мужицкой паствой и сам нищий. Раздолье помещика тоже покончилось с реформой. Итак, уже нет крепостного права, привилегированный класс лишился части своих привилегий — но кому же стало лучше? Естественно, участь народа по-прежнему наитяжелейшая. Но в разоренной, неустроенной стране мог ли быть счастливым даже и сам царь, на чью жизнь уже неоднократно покушались (и спустя 3 года после смерти Некрасова убили)? Писатель Короленко вспоминал, каким увидел Александра II незадолго до этого: «Меня поразило лицо этого несчастного человека. Оно было отекшее, изборожденное морщинами, нездоровое и… несчастное. Так начать и так кончить!..» У Короленко, постоянно скитавшегося по тюрьмам и ссылкам «политического преступника», не могло быть симпатий к верховной власти и ее носителям. Но его болезненно поразил контраст: царь, который провел долгожданную реформу, под конец пал жертвой террористов-народников. И вместо вопроса «Кому живется весело?» возникает другой: «кто всех грешней?» Один сказал: кабатчики, Почему вообще стали говорить о грехах?Другой сказал: помещики, А третий — мужики. Религиозное сознание опирается на представление о господстве нравственного закона. Несчастье — предупреждение либо кара за грехи. У Герцена вопрос: кто виноват? — риторический, фиктивный: сознание Герцена не религиозно. Для него не существует вопроса о вине — только о причинах неудовлетворительного порядка вещей. Но для простодушно верующих некрасовских крестьян этот вопрос обретает свой исходный смысл. За чью же вину Бог карает людей? Первая версия — «кабатчики» — отзывается начальным замыслом: показать, что на Руси счастлив только «пьяненький». Позднее Некрасов от этой идеи отказался: она выглядела слишком уж тощей. Но следы «пьяной» темы в поэме остались: например, глава «Пьяная ночь». Или сказочная птичка, удружившая мужикам скатертью-самобранкой, — она делает важную оговорку: «водки можно требовать / В день ровно по ведру». Это условие героям предстояло, очевидно, нарушить. Но интереснее другое: мера, которую птичка считает разумной и умеренной. Ведро (стандартная мера емкости — 12,3 литра) на семь мужиков. То есть 1 ¾ литра на человека в день! Любопытно вот еще что. В самом начале поэмы герои в азарте спора отошли по дороге «верст тридцать» от места, где встретились, и садятся передохнуть «под лесом при дороженьке»: За водкой двое сбегали, Не совсем понятно, куда так быстро «сбегали» за водкой некрасовские герои, далеко отошедшие от любого жилья. Похоже, что Некрасов просто не обратил на эту неувязку внимания: подсознательная уверенность, что водка есть везде. Факт, в какой-то мере отражающий и подлинное положение вещей. Торговлю алкоголем монопольно сохраняло за собой государство, но почему-то именно здесь в отношении цен неизменно держалось умеренности (принцип «пьяным народом легче управлять»).А прочие покудова Стаканчик изготовили, Бересты понадрав. У каждого крестьянина При всех сменах властей и политических систем это положение не менялось. Попытка ввести «сухой» или хотя бы «полусухой» закон была предпринята только дважды: первый раз — перед Октябрьской революцией, второй — незадолго до перестройки и краха Советской власти. Такое впечатление, что народ протрезвел — и…Душа что туча черная — Гневна, грозна, — и надо бы Громам греметь оттудова, Кровавым лить дождям, А всё вином кончается. Но очевидно, что пьянство — не корень, а плод зла, социального неблагоустройства. И вопрос снова возвращается к исходной точке: кто всех грешней, кто виноват, что нет на Руси счастливых? Ожидаемый ответ — помещики. Меру их грехов показывает история разбойника Кудеяра. Покаявшийся на старости лет злодей получает молитвенное откровение: преступления его простятся, когда он срежет своим разбойничьим ножом вековой дуб. Труд практически безнадежный — и все же дуб падает… когда бывший разбойник в порыве гнева убивает мимоезжего пана, со смехом поведавшего, как он терзает и казнит своих холопов. Такая неортодоксальная мораль — в духе, если не в букве Евангелия. Бывший разбойник формально преступает заповедь «не убий», чтобы по существу исполнить заповедь «возлюби ближнего своего». Сострадание к жертвам злодея-пана берет верх над, казалось бы, благоразумной мыслью, что кающемуся убийце не стоит брать на душу новый грех убийства. Кудеяр пожалел страдающих людей больше, чем себя, и за это прощен. Как же тяжко должен быть виновен перед Богом и людьми помещик, чтобы небесный суд не только не находил греха его убить, но даже прощал за это былые вины! Он оказывается как бы исключенным из заповеди «не убий». Однако другой спорщик твердит свое: самый тяжкий грех — крестьянский. В доказательство поведана история старосты Глеба, который, польстившись на посулы наследников богатого адмирала, сжигает завещание — вольную для его крепостных. Этот грех назван «иудиным» — грехом предательства. Недаром традиция осуждает не римлян и не Пилата, а Иуду — соплеменника и сподвижника Христа: предать можно только своего. Глеб сам крестьянин, он знает, что такое крепостная кабала, но обрекает этой участи односельчан. В этом смысле он даже хуже садиста-помещика, который в крестьянах не видит людей — неудивительно, что ему их не жаль. Почему же все должны нести расплату за одного Глеба? А в том-то и дело, что он не один. Мужики у Некрасова разные. Рядом с Матреной, дедом Савелием, Ермилом Гириным и пр. — целая галерея добровольных рабов, холопов по призванию, стукачей, больших и мелких предателей… Новое время выдвигает из народа и такой малопривлекательный тип, как мужик-демагог: Каких-то слов особенных А тут прямо современные ассоциации возникают:Наслушался: Атечество, Москва первопрестольная, Душа великорусская. «Я — русский мужичок!» — Горланил диким голосом… Влас за крестьян ходатаем, Конечно, Некрасов не верит, что таковы мужики в большинстве. Но частица Иуды дремлет в душе каждого, даже очень хорошего человека.Живет в Москве... был в Питере... А толку что-то нет! Это доказывает история еще одного старосты, Ермила Гирина. Он справедлив и бескорыстен — но и на него нашлась проруха. При рекрутском наборе вместо своего младшего брата Ермил сдает сына вдовы. Угрызения совести едва не доводят его до самоубийства. И, даже исправив свой проступок, Ермил не хочет оставаться старостой. Этот случай рассказан не для «разоблачения» симпатичного персонажа. Здесь евангельский прототип — апостол Петр, трижды отрекшийся от Иисуса, когда того арестовывали. Даже в такой душе дремлет Иуда, хоть Петр и был уверен в обратном («никогда не соблазнюсь…»). Тем не менее именно ему, знающему искушение и грех, вверены ключи от царствия небесного. Иудин грех вырастает из заботы о своем благе, отдельном от блага ближнего («своя рубашка к телу ближе»). А сила народа — в единстве. Больше того, сам народ есть единство. Забывая об этом, он предает свою собственную сущность, отрекается от того, чем силен, и становится легкой жертвой притеснителей («разделяй и властвуй»). Поэма вообще богата евангельскими реминисценциями. Некрасов хотел поставить сложные вопросы — о предназначении, смысле жизни и счастье людей — в форме, доступной для самого широкого читателя. Между тем народ читал разве что пресловутого «милорда глупого» (популярный лубочный роман). Единственная серьезная книга, входившая в круг народного чтения, — как раз Евангелие. Его образы, мотивы, идеи были всем знакомы, и поэт на них опирается. Например, оттуда пришел в поэму образ двух жизненных дорог: одна — торная дорога «страстей раба», другая — тернистый путь честного человека (Мф., VII, 14-15); образ сева и сеятеля, который сопряжен с темой духовной проповеди (ср. знаменитый призыв: «Сейте разумное, доброе, вечное!»). Но и сам дух Евангелия близок некрасовской поэме. Путь «заступников народных» (среди которых Некрасов называет писателей — Белинского и Гоголя) сродни искупительной жертве Христа. Не только Иуде, но и Христу человек может быть сопричастен; выбор зависит от него. А от этого выбора, в свой черед, зависит будущее народа и страны. Рай, к которому зовет Некрасов, — земной. Его не обрести в одиночку, замкнувшись в собственной душевной гармонии. Путь к личному душевному спасению, игнорирующий беду ближних, неприемлем. Отставной дьячок толкует мужикам, что счастье — «в благодушестве». Но его прогоняют: «Проваливай!» И как бы ни был Некрасову симпатичен Гриша Добросклонов, поэт не разделяет его наивной веры, что отмена крепостного права вырвала самый корень зла. В многоголосном хоре поэмы радостные ожидания Гриши дополняются горькой песней нищего отставного солдата, зловещими посулами старого раскольника: Горе вам, горе, пропащие головы! Чьему пророчеству суждено сбыться — решать самим людям.Были оборваны — будете голы вы, Били вас палками, розгами, кнутьями, Будете биты железными прутьями! Веру в способность народа подняться до высоты христианского идеала — в массе, а не в отдельных лишь своих представителях, — Некрасов обретает в том, что в людях живет тяга к правде-справедливости. Недаром русское слово «правда», однокоренное с «праведностью», обладает полноценным вторым значением (truth, Wahrheit, vérité — «правда-истина», но не «правда-справедливость»). Уже в 1830-40-е гг. целые группы крестьян отправлялись искать мифическое Беловодье. Мужик-мечтатель Касьян («Записки охотника» Тургенева) рассказывает о земле, где «яблоки растут золотые на серебряных ветках и живет всяк человек в довольстве и справедливости». А в 1898 г. на поиски праведной земли были отправлены своими станичниками три уральских казака. Они объехали полмира: Одесса, Константинополь, Афон, Смирна, Патмос, Родос, Кипр, Бейрут, Сидон, Яффа, Иерусалим, Порт-Саид, Суэцкий канал, Цейлон, Сингапур, Сайгон, Гонконг, Шанхай, Нагасаки… В пьесе Горького «На дне» Лука рассказывает характерную для «правдоискательского» сознания историю: про человека, который попросил ученого найти в книгах праведную землю. А когда ее не обнаружилось, обругал ученого, пошел домой и удавился. Если нет такой земли — стало быть, и жить незачем. Основной посыл некрасовской поэмы — внешние перемены жизни сами по себе ничего не дают, пока ничто не меняется в людях. Не увеличится «сумма счастья» — ни общественного, ни личного, — пока действует принцип хаты с краю. Таким образом, последним произведением реалиста Некрасова стала народно-христианская утопия. Переживание огромности этого разрыва — между реальностью и идеалом («…жаль только, жить в эту пору прекрасную…») — закрепило в национальной памяти образ Некрасова как певца русской хандры. Свернуть сообщение Показать полностью
19 Показать 7 комментариев |
|
#картинки_в_блогах #времена_года
 Ээро (Эрик) Ярнефельт (1863–1937). Звездное небо Вот и ёлочки подъехали… Суровый карельский пейзаж, эпический и лаконичный. Автор — известный финский художник-реалист. (В 2013 году Монетный двор Финляндии выпустил посвященную ему 10-евровую монету.) И у Ярнефельта замечательная в своем роде семья, с которой мы, в общем, знакомы. Его отец — Август Александр Ярнефельт — сенатор и генерал (российский, естественно), потомок старинного, хоть и обедневшего знатного рода. А мать принадлежала к фамилии балтийских немецких аристократов фон Клодт. Прадед Ээро, Карл Клодт, барон и генерал, участвовал в Бородинском сражении: его портрет висит в Эрмитаже, в Галерее героев 1812 года. Показать полностью
28 Показать 9 комментариев |
|
#даты #литература #поэзия #длиннопост
#цитаты в большом количестве! Сто лет назад ушел из жизни Александр Блок — «трагический тенор эпохи» (А.Ахматова). Всякое стихотворение — покрывало, растянутое на остриях нескольких слов. Эти слова светятся как звезды. Из-за них существует стихотворение. Максимилиан Волошин написал однажды:А.Блок. Из Записных книжек Рассматривая лица других поэтов, можно ошибиться в определении их специальности: Вячеслава Иванова можно принять за добросовестного профессора, Андрея Белого — за бесноватого, Бальмонта — за знатного испанца, путешествующего инкогнито по России без знания языка, Брюсова — за цыгана, но относительно Блока не может быть никаких сомнений в том, что он поэт… Лицо его выделялось ясным и холодным спокойствием мраморной греческой маски.А еще все современники отмечали, что он никогда не смеялся. Только улыбался… Как многие русские лирики, Блок имел примесь иноземной крови, хотя его мать — чисто русская: внучка исследователя Средней Азии Карелина и дочь профессора ботаники, ректора Петербургского университета Бекетова. Немецкая фамилия досталась будущему поэту от прапрадеда-мекленбуржца Иоганна фон Блока, который переселился в Россию в 1755 году и состоял лейб-медиком при дворе императрицы Елисаветы Петровны. Так что не только «арап Петра Великого», но и врач его дочери имел знаменитого потомка. В одном из последних своих стихотворений — «Скифы» — Блок отметит как черту русского менталитета протеизм и дар культурной ассимиляции: Мы любим всё — и жар холодных числ, Есть поэты, которые всю жизнь проводят в рамках одной-единственной темы или описывают вокруг нее концентрические круги. Блок — из тех, для кого актуальна тема движения, пути:И дар божественных видений, Нам внятно всё — и острый галльский смысл, И сумрачный германский гений… Мы помним все — парижских улиц ад И венецьянские прохлады, Лимонных рощ далекий аромат И Кельна дымные громады… Рожденные в года глухие Ранняя лирика Блока — однострунная: музыка теней, туманов и снегов. Для «суетного мира» у нее три краски: чернота ночи, белизна снега и графитовая серость сумерек; для мира «подлинного» — мистические цвета: золото, синева, лазурь.Пути не помнят своего. Мы — дети страшных лет России — Забыть не в силах ничего. Блок вошел в русскую лирику певцом Незнакомки, «вечно-женственного». Таинственная Она появляется неизменно под уклончивыми именами: Дева, Заря, Купина — и только единожды называется Прекрасной Дамой: Там жду я Прекрасной Дамы Заря, звезда, солнце — не просто небесные тела, а символы Ее. Весна, утро — не время суток, а знак встречи; зима, ночь — разлуки, ветер — Ее приближения.В мерцаньи красном лампад… Но если приглядеться, то Она в «Стихах о Прекрасной Даме» — скорее даже не женщина, хоть бы и идеальная, а… Луна. Отблески лунарного мифа, связанного с темой любовных чар, царства мертвых и т. п., объясняют частоту повторов «плывешь», «всплыла» и странные — если применить их к женщине — образы: В ночь молчаливую чудесен Необычно сплавляются признаки пейзажа и портрета; в облике природы проступают черты женского лица (воспринятая от Вл. Соловьева идея женственной души мира):Мне предстоит твой светлый лик… Ты в белой вьюге, в снежном стоне Опять волшебницей всплыла… Ты рассыпаешь кругом жемчуга… Слышал твой голос таинственный, Ты серебрилась вдали… Ты горишь над высокой горою, Недоступна в Своем терему… Там лучезарным сновиденьем В лазури строгой блещешь Ты… Белая Ты, в глубинах несмутима… Ее необычайный глаз… Закатная, таинственная Дева… Над печальными лугами Мы встречаемся с Тобой… И очи синие бездонные цветут на дальнем берегу… Блок занимает первое место среди русских поэтов по частоте таких образов, как заря, рассвет, закат, туман, мгла, снег, буря, вьюга, ветер, вихрь, костер — и прочих знаков стихий. И он же чаще всех соединяет тему природы с темой другой стихии — любви. Только восходы и закаты первого тома лирики позже сменяются вьюгами и метелями; они связаны с переживанием гибельности:А ты всё та же: лес да поле, да плат узорный до бровей… Нет исхода из вьюг, Вся «вьюжная» тематика «Снегов» — раскрытие метафоры «вихрь страсти». Незнакомка становится Снежной Девой, уводящей в смерть. Она холодная, кружащая, губительная. Она сама — метель. Мир — круг, сфера, бездна; он не имеет границ, он алогичен, но по-прежнему музыкален, хотя музыка сменилась:И погибнуть мне весело, Завела в очарованный круг, Серебром своих вьюг занавесила… Это — дьявольский сплав из многих миров, преимущественно синего и лилового. <…> Врывается сине-лиловый мировой сумрак (лучшее изображение всех этих цветов у Врубеля) при раздирающем аккомпанементе скрипок и напевов, подобных цыганским песням. С неизменным постоянством, в духе любимого поэтом Вагнера, сплетаются темы музыки, любви и смерти — как необоримых стихийных сил.Блок. О современном состоянии русского символизма Образ страсти-вьюги сопровождает даже тему Кармен (хотя, казалось бы, где метель — и где знойная испанская красавица). Цикл «Кармен» посвящен оперной певице Л.А.Дельмас, которую Блок увидел и услышал именно в опере Бизе: Бушует снежная весна, Театр цеплял самые глубинные эмоциональные струны в душе Блока. Даже роман с «Прекрасной Дамой» — Л.Д.Менделеевой — получил решающий толчок после того, как они сыграли Гамлета и Офелию в любительском спектакле. Актрисами были В.А.Щеголева («Черный ворон в сумраке снежном…») и Н.Н.Волохова, которой посвящен цикл «Снежная маска»:Я отвожу глаза от книги… Нет исхода вьюгам певучим! С Волоховой Блок познакомился, когда она играла в его пьесе «Балаганчик». В драматические сочинения Блока вторглась горечь, которой — до поры — не было в его стихах, хотя она уже проникла в жизнь поэта. Он расплачивался за свой юношеский идеализм.Нет заката очам твоим звéздным! Рукою, поднятой к тучам, Ты влечешь меня к безднам!.. Мир из театра стал балаганом, даже балаганчиком, где пляшут марионетки в картонных шлемах, с клюквенным соком в жилах. Ожидаемая мистиками «Дева далекой страны» оказывается сначала Коломбиной, лукавой невестой Пьеро, а потом — картонной куклой. Вот все, что осталось от «Стихов о Прекрасной Даме»: картонный шлем и деревянный меч. Восторженный Арлекин прыгает в распахнутое окно, но даль, видимая в окне, нарисована на бумаге, и Арлекин летит вверх ногами в пустоту. (Этот прием позже появится в таких фильмах, как «Шоу Трумэна» или «О смерти, о любви».) Балаганчик — фальшь, но «настоящая жизнь» — и вовсе фикция. Блоковский театр — подмостки, на которых мечта сталкивается с реальностью. Героиня «Незнакомки» звездой падает в земной мир, где оказывается между грубой пошлостью кабака и утонченной пошлостью светского салона. Для обитания звезд земля не подходит. На перекрестье действительности и мечты — Лангедока эпохи альбигойских войн и легендарной Бретани — существует и рыцарь Бертран («Роза и Крест»). Блоковские драмы — трагедии человеческой любви, стоящей на узкой вершине между двумя обрывами: «любовью ангельской» и «любовью животной». Людям будешь ты зовом бесцельным. Блоку случилось превратить в поэму один из собственных снов. Так появилась на свет «Ночная Фиалка». Странный сон и странная поэма. Она написана свободным стихом и причудливо соединяет картину петербургских болот с легендой о скандинавских королях, рыцарях и певцах, сидящих в избушке за огромной пивной бочкой и погруженных в вековой сон. Странником в мире ты будешь! В этом — твое назначенье, Радость–Страданье твое. Это затишье — пауза перед бурей, принцип симфонического контраста. Наплывает страх перед вторжением хаоса. «Безвременьем» назвал Блок тягостную атмосферу начала нового века, оплетенную «серой паутиной скуки»: «Нет больше домашнего очага… Радость остыла, потухли очаги. Времени больше нет. Двери открыты на вьюжную площадь». В стихах эпохи «безвременья» рождается образ демонической колдовской Руси. Дебри, болота, зарева пожаров, снеговые столбы, где кружатся ведьмы, ночные хороводы разноликих народов, пути и распутья, ветер и вьюга, страшная, нищая Россия — другая блоковская Она, вся в движении, в полете, взметенная и взвихренная. Русь, опоясана реками Сквозь туман болот проступают образы его копошащихся, снующих и шелестящих обитателей: чертенят, «дурачков» («нежить, немочь вод»), «болотного попика» — шекспировских «пузырей земли».И дебрями окружена, С болотами и журавлями, И с мутным взором колдуна… Стихи сборника «Распутья» напоминают записи бреда, ночных кошмаров: пугающие, бессвязные детали урбанистического пейзажа. Вот двойники в костюме Арлекина тащатся по базару: один — юноша, другой — старик. Вот «недвижный кто-то, черный кто-то» считает людей, угрюмо плетущихся через ворота фабрики. Невидимки, карлики, «на Звере багряном Жена»… По городу бегал черный человек. Даже обычная утренняя процедура (по утрам на улицах гасили газовые фонари) выглядит как часть некого инфернального пейзажа. Надрывные и хриплые, как шарманка, песни о проклятии труда, нужды, запоя и разврата смешиваются с мрачной музыкой «Плясок смерти»…Гасил он фонарики, карабкаясь на лестницу… В кабаках, в переулках, в извивах, «Электрический сон наяву» — это «синема», кинематограф. Прогресс не столько изменил жизнь, сколько подчеркнул неизбывность ее трагизма. Сны кинематографа приходят на смену снам театра, однако так и не претворяются в реальность. В «Шагах Командора» «пролетает, брызнув в ночь огнями, / Черный, тихий как сова мотор» — автомобиль; но это ничего не меняет ни для Дон-Жуана, ни для Анны. В «Авиаторе» тема полета — сбывшейся многовековой мечты человечества — связана не с ликованием, а с ужасом:В электрическом сне наяву Я искал бесконечно красивых И бессмертно влюбленных в молву… Иль отравил твой мозг несчастный Жизнь Блока, и прежде всего жизнь в поэзии, протекла под знаком музыки. Он писал: «Когда меня неотступно преследует определенная мысль, я мучительно ищу того звучания, в которое она должна облечься. И в конце концов слышу определенную мелодию. И тогда только приходят слова…». А уже из слов рождаются стихи.Грядущих войн ужасный вид: Ночной летун, во мгле ненастной Земле несущий динамит? Блок не «сочиняет», а слушает некий внутренний голос. Бывшие школьники помнят знаменитый камень преткновения в стихотворении «Фабрика»: авторское написание, которое Блок в этом конкретном случае упорно отстаивал, — «жолтый»: В соседнем доме окна жолты. Это «О» обычно не объясняют толком — только туманно замечают, будто это «знак пошлости», которая, как печать, лежит на отражаемой картине; хотя непонятно, почему О — более пошлая буква, чем Ё. (Школьники, как правило, просто заключают из этого, что Блоку разрешали делать ошибки, а им — нет.) Можно, конечно, рассматривать конкретные контексты, указывать, что О подчеркивает звучный ассонанс (три ударных О рядом), или созвучие с рифмой «болты», выделяя ее (люди как гайки), или создает зрительный образ окна — засасывающей воронки — через саму форму буквы.По вечерам — по вечерам Скрипят задумчивые болты, Подходят люди к воротам… Но в любом случае такое выделение показывает, что здесь эпитет не тождествен просто цвету, эмоционально подчеркнут. Иначе говоря, Блок, с его острым музыкальным чутьем и поэтической интуицией, так слышал — и настаивал на этом. В других случаях он сохраняет общепринятую форму: В черных сучьях дерев обнаженных Есть и другие примеры. Вот рукописная помета для корректора на одном из стихотворений: «Мятели — здесь необходимо сохранить это написание, в противоположность Снежной Маске». (В «Снежной маске» у Блока написание опять же обычное: «метель».)Желтый зимний закат за окном… Кроме «жолтый» и «мятель», у него попадаются также «корридор», «решотка», «павилика», «сгарать», «близь», «отвека» и даже «ввышине». А когда Блок использовал в одном стихотворении образ Эдгара По, то настаивал на собственной транскрипции слова sir — «сőр»: так оно звучало для него «тургеневским звуком с французским оттенком». Всякая моя грамматическая оплошность в стихах не случайна, за ней скрывается то, чем я внутренне не могу пожертвовать. Он, как ваятель Возрождения, отсекал лишнее от бесформенной глыбы мрамора, освобождая красоту, томящуюся внутри:…искусство есть чудовищный и блистательный Ад. Из мрака этого Ада выводит художник свои образы; так Леонардо заранее приготовляет черный фон, чтобы на нем выступали очерки Демонов и Мадонн; так Рембрандт выводит свои сны из черно-красных теней, а Каррьер — из серой сетчатой мглы. Поэма «Возмездие» родилась из разлитого в воздухе напряжения накануне мировой войны, из ощущения «слома времен». Обрывки воспоминаний перемежаются всплывающими знаковыми образами ушедшей и уходящей эпохи: Грибоедов и Достоевский, Врубель и Софья Перовская…Век девятнадцатый, железный, Все отчетливее проступает образ России, с ее «нищей красотою / Зыбучих дюн и северных морей» — образы, ничуть не похожие на идеально-неземные пейзажи первых сборников:Воистину жестокий век! Тобою в мрак ночной, беззвездный Беспечный брошен человек! В ночь умозрительных понятий, Матерьялистских малых дел, Бессильных жалоб и проклятий Бескровных душ и слабых тел!.. …Двадцатый век... Ещё бездомней, Ещё страшнее жизни мгла (Ещё чернее и огромней Тень Люциферова крыла)… Когда в листве сырой и ржавой Все уже определившиеся блоковские темы проходят как бы в контрапункте. Светлая мелодия периодически вспыхивает посреди надвигающегося мрака — рано или поздно «угль превращается в алмаз»:Рябины заалеет гроздь… Над скудной глиной желтого обрыва В степи грустят стога… Сотри случайные черты — Но одновременно звучат и «голоса из хора» — «о том, что никто не придет назад» («Девушка пела в церковном хоре»), о «мраке грядущих дней» («Голос из хора»). И ты увидишь: мир прекрасен. Цикл «Страшный мир» — пространство энтропии, однообразия, утрат, загроможденное предметами: зло грубо-материально. Возникают мотивы «Демона», дантовского «Ада», зловещие «Пляски смерти». Если есть что-то мрачнее картин танцующих мертвецов и закутанного в плащ скелета, то это холодно-равнодушное: Старый, старый сон. Из мрака Фонари бегут — куда? Там — лишь черная вода, Там — забвенье навсегда. Пусто, тихо и темно. Наверху горит окно. Все равно. Я сегодня не помню, что было вчера, То, что было источником надежды, утопает в пошлости мещанского быта, в деталях, для Блока небывало прозаичных.По утрам забываю свои вечера… Когда невзначай в воскресенье Из утраты цельности рождается образ двойника. В октябрьском тумане, среди ветра, дождя и темноты, слышится шепот «стареющего юноши»:Он душу свою потерял, В сыскное не шел отделенье, Свидетелей он не искал, А было их, впрочем, не мало: Дворовый щенок голосил, В воротах старуха стояла, И дворник на чай попросил. …Устал я шататься, Мятеж «лиловых миров» и плач скрипок стихают. «Лиловый сумрак рассеивается; открывается пустая, далекая равнина, а над нею — последнее предостережение — хвостатая звезда. И в разреженном воздухе горький запах миндаля…» — писал Блок в статье «О современном состоянии русского символизма».Промозглым туманом дышать, В чужих зеркалах отражаться И женщин чужих целовать… «Хвостатая звезда» — комета Галлея, которую ждали в 1910 году. По предварительным расчетам (впоследствии оказавшимся ошибочными), она должна была столкнуться с Землей. А «миндаль» — напоминание об Экклезиасте; как и комета, он предвестник катастрофы. Экклезиастовские отголоски слышатся и в теме вечного возвращения: Ты здесь пройдешь, холодный камень тронешь, Одетый страшной святостью веков… Забытый гул погибших городов Странный факт: гул, из которого сложилась для поэта «музыка революции», был для него не метафорическим, а вполне реальным. Блок писал, что принял его сперва за шум землетрясения: «Во время и после окончания „Двенадцати“ я несколько дней ощущал физически, слухом, большой шум ветра — шум слитый (вероятно, шум от крушения старого мира)». Через два дня в этом гуле стала проступать музыка — но незнакомая, не та, что налетала на него раньше в рыданье скрипок и цыганских песнях.И бытия возвратное движенье… В «Двенадцати» «черный вечер» революции, кровавые расправы, крушение старого мира — одновременно «гимн к радости»; ритмы поэмы как бы пьяны хмелем свободы. На Блока гневно обрушились друзья, коллеги, знакомые — из тех, кто не признал Советскую Россию (их было большинство). В своем ответе на обличительное письмо З.Гиппиус Блок заметил, что бессмысленно отрицать ход истории: Неужели Вы не знаете, что „России не будет“ так же, как не стало Рима — не в V веке после Рождества Христова, а в первый год первого века? так же не будет Англии, Германии, Франции. Что мир уже перестроился? Что „старый мир“ уже расплавился? Нельзя было, с точки зрения Блока, «принять» или «не принять» удар молнии из заряженных электричеством туч.В «Двенадцати» применена монтажная техника кинематографа — черно-белого, каким знал его Блок, со свойственным старому киностилю мелодраматизмом. В ночь восстания слышен только голос города: крестьянская, деревенская Россия у Блока безмолвствует — поет городская голытьба, рабочие, фабричный люд, всколыхнувшееся дно столицы. «Двенадцать» — не Россия, а Петербург: его ветер, его метельная ночь, его озорная песня и мещанский говорок. Тема вьюги срастается с темой революции, бунта, мятежа. (Не только у Блока, но и у других классиков встречается написание «мятель», сохраняющее этимологию слова: «смятение», «мятеж».) Музыка «Двенадцати» образуется сменой ритмов. О старом мире Блок говорит классическим, иронически-торжественным размером — четырехстопным пушкинским ямбом: Стоит буржуй, как пес голодный, Ямб контрастирует с подпрыгивающими, притопывающими хореями, которые взвизгивают и дергаются: ритм частушек, гармоники и романсов под шарманку. Революционный Петербург порождает вульгарную мещанскую драму Катьки и Ваньки: «уголовный роман» любви, измены и убийства.Стоит безмолвный, как вопрос. И старый мир, как пес безродный, Стоит за ним, поджавши хвост. Гетры серые носила, (Как непохоже на протяжные, словно звон погребального колокола, хореи, которые можно слышать в «Шагах Командора»: «Донна Анна в смертный час твой встанет, / Анна встанет в смертный час…»)Шоколад Миньон жрала. С юнкерьем гулять ходила — С солдатьем теперь пошла? Третья ритмическая стихия «Двенадцати» — не признающая авторитета размеров своевольная фольклорная «тоника». Под ее знаком проходит тема крушения старого мира. Она выдержана в рваном «кинематографическом» стиле, в гамме черно-белого синема: Черный вечер. Постепенно тоника становится разухабистой: Белый снег. Ветер, ветер! На ногах не стоит человек. Ветер, ветер — На всем Божьем свете! В зубах — цыгарка, примят картуз, Это новые Стеньки и Емельки, пресловутый пушкинский «русский бунт»: На спину б надо бубновый туз! Пальнем-ка пулей в святую Русь!.. — и наконец в черно-белой графике возникает цветовое пятно — красный флаг — и звуки «Варшавянки»:Запирайте етажи — нынче будут грабежи!.. Уж я ножичком полосну, полосну!.. Вперед, вперед, вперед, В последние годы жизни Блок вдруг ощутил тишину. И стихи кончились сами собой. После «Скифов» (1918) он не написал почти ничего, кроме стихотворения-посвящения «Пушкинскому Дому» (Институт Русской Литературы РАН на набережной Макарова, бывш. Тучковой).Рабочий народ! Когда спрашивали, почему он не пишет, Блок постоянно отвечал одно и то же: «Все звуки прекратились. Разве не слышите, что никаких звуков нет?» Корней Чуковский вспоминал, как на заседании редколлегии Блок читал свою вступительную статью к изданию Лермонтова. Ему долго объясняли, что о вещих снах поэта можно не упоминать и что вообще следует писать в более «культурно-просветительном» тоне. «Чем больше Блоку доказывали, что надо писать иначе, тем грустнее, надменнее, замкнутее становилось его лицо. С тех пор и началось его отчуждение от тех, с кем он был принужден заседать. Это отчуждение с каждой неделей росло». За полгода до смерти (в сорок лет) Блок читал на торжественном собрании в Доме литераторов речь, посвященную пушкинской годовщине: «О назначении поэта». Покой и воля. Они необходимы поэту для освобождения гармонии. Но покой и волю тоже отнимают. Не внешний покой, а творческий. Не ребяческую волю, не свободу либеральничать, а творческую волю, тайную свободу… И поэт умирает потому, что дышать ему уже нечем: жизнь потеряла смысл… Он прав — опять фонарь, аптека, Нева, безмолвие, гранит... Как памятник началу века, Там этот человек стоит — Когда он Пушкинскому Дому, Прощаясь, помахал рукой И принял смертную истому Как незаслуженный покой. (Анна Ахматова) Свернуть сообщение Показать полностью
16 Показать 2 комментария |
|
#даты #литература #поэзия
200 лет со дня рождения Шарля Бодлера. Первый встречный имеет право говорить сам о себе, лишь бы это было занятно. Францию (да собственно, и любую страну) не удивить поэтами со сложным, неуживчивым характером — и даже поэтами, вступившими в конфликт с Законом. Но если Вийона судили за грабежи, а Верлена — за покушение на убийство, то Бодлеру пришлось предстать перед судом за свои стихи.«Мое обнаженное сердце» Бодлер был из тех, для кого Верлен придумал прозвище «прóклятые поэты», хотя отщепенство было не столько уделом Бодлера, сколько его жизненным выбором. И из всех французских поэтов именно к Бодлеру чаще всего обращались русские переводчики — особенно эпохи «декаданса». Там они находили созвучное своему собственному переживание обреченности. «Русского Бодлера» создали Эллис, Д.Мережковский, Ф.Сологуб, Н.Минский, Вяч. Иванов, В.Брюсов, К.Бальмонт, И.Анненский, Б.Лившиц, Н.Гумилев, М.Цветаева, П.Антокольский, В.Левик, В.Микушевич… Для «феномена Бодлера» как личности придумывали самые противоречивые объяснения. Его называли и богоборцем, и непонятым христианским поэтом. Сам он видел себя в менее романтическом свете: Чувство вечно одинокой судьбы. В то же самое время — сильная жажда жизни и удовольствий. Западные биографы любят объяснять Бодлера через эдипов комплекс: целую жизнь Шарль питал все возрастающую ревность к собственному отчиму; отношения его с матерью из-за этого стали очень неровными, и порывы привязанности перемежались вспышками обиды. Отчим, генерал Опик, сделался для Шарля воплощением всего, что он ненавидел в жизни, прежде всего — буржуазной респектабельности. Видимо, отчасти в пику семье он связал свою жизнь с мулаткой Жанной Дюваль из (мягко говоря) богемной среды. Жанна вела беспорядочную жизнь и быстро спилась; впрочем, Шарль поддерживал и опекал ее до самой смерти. Собственное его поведение после того, как он повзрослел, вызывало у родственников усиливающуюся тревогу: наследство, полученное молодым человеком от отца, быстро таяло, алкоголь и наркотики стали частью его повседневности — и вскоре семья добилась установления над Шарлем опеки по суду. Что, конечно, не улучшило их отношений.Совсем еще ребенком я ощутил в своем сердце два противоречивых чувства: ужас жизни и упоение жизнью. Это присуще лентяю со слабыми нервами. «Мое обнаженное сердце» К тому времени он уже начал писать стихи. Но вместо уверенно ожидаемой молодым поэтом славы они принесли только новые неприятности. Подстрекаемый своей ненавистью к «буржуазности» (воплощавшейся для него в собственной семье), Бодлер задумал цикл «Лесбиянки». Неординарное проявление чувственности виделось ему одной из вариаций устремления к бесконечному. Позже название изменилось на «Лимбы» (естественно, дантовские), и наконец возникло заглавие «Цветы Зла». Точнее, «Les Fleurs du Mal» — что можно перевести и как «Болезненные Цветы». Страдание тоже есть Зло — оно разлито в мире и сосредоточено в человеке. Поэзию нередко путают со стихами. Но стихи — это только форма. Бывают стихи, в которых нет ничего поэтического: басни, например. И в то же время есть множество поэтичных произведений в прозе. (Существуют как отдельный жанр даже «стихотворения в прозе» — и у Бодлера их очень много, как и у его ближайшего преемника — Артюра Рембо.) Основа поэзии, ее главный признак — это эмоция как центральный объект изображения. И благопристойную публику в лирике Бодлера шокировало как раз то, какую эмоцию он избрал. Страдание описывали задолго до него, описывали и отверженность, изгойство — но поэты-романтики делали это «красиво». Такие стихи, романтические, у Бодлера есть тоже, взять хотя бы знаменитый «Альбатрос». Но Бодлер создал своего рода эстетику отталкивающего; и превращение зла в объект искусства в глазах многих выглядело как поэтизация зла. Одной из генеральных эмоций лирики Бодлера стало отвращение. Так в осень разума вступил я невзначай… Для подлинных художников, по его мнению, самые непреодолимые страсти — презрение и скука: Ненависть — это драгоценный напиток, яд более дорогой, чем яд Борджиа, потому что он сделан из нашей крови, нашего здоровья, нашего сна и двух третей нашей любви. Нужно быть скупым на нее. Традиционные эстетические идеалы для Бодлера лишились содержания, а современная красота, отразившая дух нового времени, видится ему надломленной, странной, дисгармоничной. Отсюда — оксюмороны типа: «О величие грязи, блистанье гниенья…». В своем стремлении раздвинуть границы, вырваться за пределы данного Бодлер исследовал и опасные возможности «искусственного рая»: под таким названием вышел сборник его эссе, посвященных вину, гашишу и опиуму.«Советы молодым литераторам» Бодлер — духовный брат Ивана Карамазова, не приемлющий не столько Бога, сколько мир, им созданный. Совершеннейшими типами красоты для него стали мильтоновский Сатана-бунтарь («Литания Сатане»), нераскаявшийся Дон Жуан («Дон Жуан в аду»). Вообще в его поэзию потоком хлынули апокалиптические, босховские образы («Фантастическая гравюра» и т. п.). Очень характерное стихотворение «Падаль» полно шокирующих сравнений: «странная музыка разложения», скелет — распустившийся цветок с сильным запахом… Тема физической тленности красоты дополняется мотивом искусства («героизма времен упадка»), которое дарит ей бессмертие. Публике, естественно, бросилась в глаза прежде всего «скандальность» стихов. Сам Гонкур по этому случаю сетовал на общее падение нравов: «Кого в наши дни обожествляет молодежь? Бодлер, Вилье де Лиль-Адан, Верлен. Первый — богемный садист, второй — алкоголик, третий — педераст и убийца». Из-за «Цветов Зла» разгорелся судебный процесс, в результате которого 6 стихотворений были изъяты из книги. В их числе — «Проклятые женщины» (о лесбийской любви), «Слишком веселой», где соединяются мотивы секса, насилия и смерти, и «Метаморфозы вампира». Бодлер с досадой писал, что дураки-буржуа, без конца твердящие о безнравственности, напоминают ему пятифранковую шлюху, которая однажды пришла с ним в Лувр — и вдруг начала краснеть, отворачиваться и спрашивать, «как можно было выставить на всеобщее обозрение этакие непристойности». Судебный приговор по «Цветам Зла» был отменен Учредительным собранием Франции только в 1946 году. Между тем мрачный тон поэзии нового времени не был случайной прихотью мизантропа. Это факт всех национальных литератур: Байрон, Э.По, Леопарди, Эспронседа, Лермонтов (во Франции Лермонтова знали уже в 1840-х гг.) и т. д. Сам Бодлер видел родственные души в Эдгаре По, Эжене Делакруа и Рихарде Вагнере, которые, на его взгляд, воплотили всю скорбь современного человека. Вдобавок он находил у них подтверждение своей идее «соответствий», которая только в ХХ веке попала в фокус общего внимания. Одно из стихотворений Бодлера так и называется — «Соответствия». Их два типа: первый — давно известный, параллель между физическим и духовным, — символ (природа как книга символов); второй — соответствия между чувственными ощущениями (синестезия): Бывает запах свеж, как плоть грудных детей, Бодлер в лирике стал также первооткрывателем урбанистической темы как темы «одиночества в толпе». В «Цветах Зла» видное место занял миф Парижа, где самое заурядное делается таинственным, жутким. Он чувствовал, что не может писать о природе: «В глубине лесов, под сводами, напоминающими своды ризниц и соборов, я думаю о наших удивительных городах…»Как флейта, сладостен — и зелен, как поляна… Мятущиеся чувства лирического героя — реакция на разнообразные импульсы города; она отразилась и в цикле поэтических миниатюр в прозе «Парижский сплин». Первый, самый крупный цикл «Цветов Зла» также носил название «Сплин и Идеал» (прочие пять — «Парижские картины», «Вино», «Цветы Зла», «Бунт» и «Смерть»). И четыре стихотворения Бодлера тоже называются «Сплин». В них — самая суть его поэзии, способность отражать смутные, хаотичные переживания в чеканной сонетной форме: Вот всякой жизни враг заклятый, Плювиоз, Классическая форма как бы взрывалась изнутри шокирующим содержанием. Это произошло и с неизменной поэтической темой любви и женщины. На бледных жителей кладбища холод черный Из урны щедро льет, и вот волной тлетворной Уничтожение в предместьях разлилось. Неугомонный кот, весь тощий, шелудивый, К подстилке тянется; под кровлей чердака Поэта бродит дух забытый, сиротливый: Как зыбкой тени плач, тиха его тоска. Рыдает колокол, дымящие поленья Часам простуженным чуть вторят фистулой; Весь день за картами, где слышен запах тленья — Наследье жалкое давнишней водяной — Валет и дама пик с тоскою сожаленья О мертвой их любви болтают меж собой. Пер. с фр. Эллиса Запутанные, противоречивые отношения Бодлера с матерью и любовницами давали мало оснований для идеализма, а его ненависть к «образцам», утвержденным общественным мнением, и здесь дала о себе знать — во многом оттого, что в жизни немного находилось места для любых идеалов. Свою злость и раздражение поэт переносил и на тех, кто поддался этому гипнозу. «Нежная красавица», шествующая с мечтательно воздетыми к небу очами, в глазах Бодлера выглядит как «молодая лягушка, взывающая к Идеалу». Вспоминая известную басню, он добавляет: «Если вы презираете чурбан, каковым я теперь являюсь, то бойтесь журавля, который скушает вас в свое удовольствие!» («Парижский сплин»). Впрочем, чаще всего Бодлер сравнивает женщину с кошкой: обе вмещают в себя таинственность, грацию, небрежность, нежность и хищность. В своих дневниках, которые Бодлер мечтал издать (изданы они были, как нетрудно догадаться, только спустя много лет после его смерти), он писал, что любовный акт имеет «большое сходство с пыткой или с хирургической операцией», и заявлял: «И мужчины, и женщины от рождения знают, что сладострастие всегда коренится в области зла». Художественное зрение Бодлера обладало печальной способностью видеть изнанки вещей, их «амальгаму»: «Глупость часто служит оправой для красоты, это она придает глазам сумеречную прозрачность темных водоемов и зеркально-гладкое спокойствие тропических морей». Юность и невинность в качестве традиционных поэтических идолов раздражают Бодлера еще сильнее: молоденькая девица, на его взгляд, сочетает в себе «величайшую глупость и величайшую испорченность. В ней как бы слились воедино мерзость хулигана и примерного школьника». Явно не сложилось у Бодлера с женщинами; впрочем, и с человечеством в целом не сложилось (а больше всего — с самим собой): Никто из людей не достоин называться великим, кроме поэта, священника и солдата. Впрочем, в «Погребении проклятого поэта» отчетливо видно, что доминантой собственной судьбы Бодлер видел не столько величие, сколько отверженность.Тот, кто воспевает, тот, кто благословляет, тот, кто приносит жертву и жертвует собой. Все остальные созданы для кнута. «Мое обнаженное сердце» Сочетание таланта и закомплексованности, разорванное и вечно тоскующее сознание побудили современника Бодлера, писателя и поэта Теофиля Готье, сравнить его с драгоценной, но треснувшей вазой. Подобно герою одного русского писателя-романтика, он заплатил за способность знать и видеть — способностью радоваться. Ему оставалось довольствоваться этим: Я не утверждаю, что Радость не может сочетаться с Красотою, но Радость является одним из самых вульгарных украшений Красоты, тогда как Меланхолия — ее благородная спутница, поэтому я не в силах вообразить тип красоты, которая не была бы пронизана Горем. В конечном счете это принесло ему после смерти славу, о какой он не мог и мечтать при жизни. Недобрый и несчастный Бодлер изобрел собственную поэтическую «алхимию горя», которая преобразовала в красоту не только несчастье, но даже отвращение и ужас.«Фейерверки» ТУМАНЫ И ДОЖДИ Вёсны, осени, зимы, и грязь, и хандра, Усыпительно скучные дни, вечера, — Я люблю, когда мгла наползает сырая, Влажным саваном сердце и мозг обнимая. Там, на темных равнинах, где свищут ветра, Где вращаются в долгой ночи флюгера, Темный дух мой, бегущий от радостей мая, Вновь воспрянет, вороньи крыла расправляя. Что для сердца, подобного гробу, милей, Чем, проснувшись под инеем, видеть все ту же Наших стран королеву, предвестницу стужи, Эту бледную мглу над безлюдьем полей. — Разве только вдвоем, под рыданья метели, Усыпить свою боль на случайной постели. Пер. с фр. В.Левика Свернуть сообщение Показать полностью
16 Показать 2 комментария |
|
#цитаты_в_тему
О взаимоотношениях и связанных с ними проблемах. Только тогда хорошо жить в чьем-нибудь сердце, когда занимаешь в нем пояс умеренный, в котором не задушат вас ни объятия, ни проклятия. А.Ф.Вельтман. Странник Природа, этот великий трагический драматург, связывает нас вместе посредством костей и мускулов и разделяет нас более тонкою тканью нашего мозга, смешивает любовь и отвращение и связывает нас фибрами сердца с существами, постоянно находящимися в разладе с нами. Дж. Элиот. Адам Бид Людские отношения, кроме деловых, основанные на чем-нибудь вне вольного сочувствия, поверхностны, разрушаются или разрушают. Быть близким из благодарности, из сострадания, из того, что этот человек мой брат, что этот человек меня вытащил из воды, а тот упадет сам без меня в воду, — один из тягчайших крестов, которые могут пасть на плечи. А.И.Герцен. Долг прежде всего Я ненавижу письма и боюсь их — это узы. Когда я разрываю четырехугольник белой бумаги, где значится мое имя, мне слышится лязг цепей, которыми я прикован к тем из живущих, кого я знал и кого знаю. Стоит только ответить улыбкой на любезность какого-нибудь незнакомца, и он уже пользуется этим преимуществом, допытывается, чем вы заняты, и упрекает вас в холодности. Г. де Мопассан. На воде Некоторых людей любишь больше всего на свете, а с другими как-то больше всего хочется бывать. Г.Ибсен. Кукольный дом Наша задача состоит не в том, чтобы приближаться друг к другу, как не приближаются друг к другу солнце и луна, море и суша. Наша цель состоит не в том, чтобы один переходил в другого, а в том, чтобы он его узнал, видел и уважал в нем то, что он есть: противоположность и дополнение его самого. Г.Гессе. Нарцисс и Гольдмунд Я категорически не желаю, чтобы человек, которого я имею неосторожность считать «своим», начал оценивать мои поступки с точки зрения абстрактных понятий. Таких, как общественное благо, добро, зло, черное, белое, подлость, честность. Это не друзья. Это самые страшные враги, потому что им удалось убедить тебя, что ты им должен за их к тебе отношение, а сами воспринимают тебя в соответствии с твоими действиями. Valley. Burglars' trip И стихотворение в тему: ДРУГ МОЕГО ДРУГА Автор — популярный американский поэт Огден Нэш (1902–1971). Есть формула, которую со школьного возраста знает каждый бухгалтер и каждый ковбой: Если две величины порознь равны третьей, то они равны и между собой. Но я рекомендую каждому взрослому — причем, заметьте, без всякой корысти — не Верить, будто это соответствует истине. Точнее, аксиома верна частично — насколько, пусть читатель проверит сам, — Но она совершенно, абсолютно недействительна в применении к моим и вашим друзьям. Рассмотрим условия: с одной стороны, Дано, что все наши друзья для нас равны; С другой стороны, допустить не грех, Что и мы равно ценны для них для всех; И если продолжить рассуждать математически (потерпите немного — у меня у самого от этих рассуждений голова идет кругом), То выходит, что поскольку наши друзья равны какой-то величине (в данном случае величина — это мы), то они должны быть равны между собой, иными словами, дружить друг с другом; Но в том и заключается главная беда, Что так не получается никогда. Предположим, у вас есть двое друзей, которые вам одинаково дороги, и они друг с другом еще не знакомы и вы давно мечтаете их свести, И наконец вам это удается, и вы деликатно отходите в сторону, чтобы не мешать их дружеским чувствам немедленно вспыхнуть и расцвести, И вы потираете руки от радости и украдкой коситесь на стол, проверяя, стоят ли там рюмки и не забыт ли ром, Но радость получается примерно такая же, как если б Чарли Чаплина познакомить с Гитлером: С первой же секунды ваши друзья проникаются глубоким взаимным отвращением, И отныне вам не хочется никого знакомить — вы довольствуетесь строго сепаратным общением; К тому же это лишь начало проблем, Потому что познакомленные страшно обижаются и начинают жаловаться общим знакомым, что вы их знакомите черт знает с кем; И дело кончается очень печально: те, кто на свете вам всего милей, Не только не хотят брататься друг с другом, но один за другим раздружаются с вами, потому что не выносят ваших друзей. Так что если у вас есть двое друзей, которые вам одинаково дороги, как волчице были дороги Рэм и Ромул (или, по-латыни, Ремус и Ромулюс), — Постарайтесь, чтоб они никогда не познакомулюс: Если что, самозабвенно заслоняйте собой их, А иначе непременно потеряете обоих. Нэш — прежде всего остроумный наблюдатель быта, а его поэзия — поток языковых сюрпризов. Он использует все слои лексики, разрушает привычные словосочетания, каламбурит, выворачивает наизнанку пословицы и крылатые цитаты, занимается словотворчеством… И соединяет рифмой такие слова, которые прежде не были даже отдаленно знакомы друг с другом. Размер обычно остается за бортом: поэзия Нэша держится на этих немыслимых рифмах, которые к тому же соединяют строчки самой произвольной длины. В классическом стиховедении такой стих называется «раёшным» или «верлибром»; сейчас его, пожалуй, могли бы назвать «рэпом». На русском языке выходила книга стихов Нэша в переводе И.Комаровой: «Все, кроме нас с тобой». По неведомой причине в существующих электронных версиях (неполных) их по большей части печатают всплошную, как прозу, и рифму приходится выискивать, что очень затрудняет чтение. В обычной, бумажной версии они напечатаны, как и положено, построчно. Вот здесь есть стихи из первых двух сборников поэта: это примерно половина бумажной книги. #поэзия #юмор #ex_libris Свернуть сообщение Показать полностью
15 Показать 2 комментария |
|
#картинки_в_блогах #времена_года
 Мартен Бопре (род. 1961). Медитация Родина художника — французская Канада (Квебек). В своих картинах Бопре пытается дать живописное воплощение идей дзэна. В основе их лежит создание максимального эффекта минимальными средствами, использование медитативных возможностей белого цвета для передачи гармонии и покоя. Бопре использует разнообразные материалы, работая не только с масляными красками, но также с чернилами, песком — и даже с кристаллами Сваровски, чтобы достигнуть уникальных текстур. Здесь слайд-шоу его картин. Показать полностью
20 Показать 9 комментариев |
|
#даты #литература #поэзия #нам_не_дано_предугадать #длиннопост
200 лет назад родился самый консервативный и самый новаторский из русских лириков XIX века — Афанасий Фет… хотя он не совсем русский, и не совсем Фет, а может быть, и совсем не Фет, — но это как раз совершенно неважно. Певец «робкого дыханья», соловьев и роз, который оказался в центре литературных сражений второй половины XIX века. Когда речь заходит о стихах, часто смешивают лирического героя с поэтом. Ну как же: ведь пишет-то он о своих чувствах, и от первого лица, и вообще!.. Конечно, стихи поэта — это часть его души. Другой вопрос, какая именно. Происхождение Фета темно. Сын немецкой мещанки Шарлотты Беккер, он появился на свет в русской помещичьей усадьбе Новоселки через два месяца после того, как Шарлотта приехала туда с А.Н.Шеншиным, лечившимся на водах в Гессен-Дармштадте. Последовав за ним, она бросила семью: отца, дочь, мужа — И.Фёта. Родившийся мальчик был записан в метрических книгах как сын Шеншина; но им он не был, хотя и муж Шарлотты не пожелал признать ребенка. Подлог выплыл наружу, когда подростку было уже 14 лет, и обозначил резкий перелом в его жизни. Он потерял фамилию, которую привык считать своей, а вместе с ней — семью, дворянство, права на наследство, будущность — даже национальность. Отныне все документы ему приходилось подписывать так: «К сему иностранец Афанасий Фёт руку приложил». Из русского дворянина он превратился в немецкого разночинца — человека без роду, без племени. Его отвезли в далекий лифляндский пансион под фамилией Фёт (Foeth), разрешение на которую с большим трудом было получено у семьи бывшего мужа Шарлотты. Эта фамилия спасала его от клейма незаконнорождённости, но не от потрясения, которое он испытал после такого поворота в судьбе. Этот омраченный жизненный дебют определил многое. Фет был человеком упорным и не склонным смиренно принимать «удары рока». Особенно если считал их незаслуженными. Он поклялся себе вернуть все, что было им утрачено: в первую очередь дворянское имя. Окончив словесное отделение Московского университета, Фет вступил в военную службу, к которой не ощущал никакого призвания, — но там было легче всего выслужить дворянство. Наконец ему пожаловали офицерский чин и привели к присяге на русское подданство. Но буквально накануне вышел высочайший указ Николая I, отодвинувший право на потомственное дворянство до VIII ступени Табели о рангах: отныне и в военной службе для его получения требовался чин майора. Фет смирился и мужественно тянул лямку 11 лет. Когда до майорства было уже рукой подать, новый царь — Александр II — вторично поднял планку: теперь потомственное дворянство давал только чин полковника. Фет не выдержал. Или, возможно, счел это своего рода знаком, что избрал не тот путь. Он вышел в отставку и занялся энергичной деятельностью с целью разбогатеть и вернуть себе потерянный рай — положение в обществе. Одним из средств достижения цели он избрал литературу: поэтический дар в нем проснулся еще в годы учения. Идеальнейший из идеальных русских лириков, Фет всю жизнь был убежденным эстетом: «Как математик во всем видит числа и очертания, так художник видит разлитую в мире красоту». Но современников поражало противоречие между его видимой личностью и стихами. Ничего общего не было, казалось, у Фета с его лирическим героем, обитающим в лоне красоты. Фет был живым опровержением хрестоматийного мифа о русском поэте — народолюбце и демократе. Его политические убеждения резко консервативны: даже разговоры о готовящихся переменах подтачивали основы того мира, куда он так стремился вернуться. В дневнике Чехова записан рассказ о Фете: проезжая мимо Московского университета, почитаемого им за рассадник прогрессивных идей, Фет приказывал останавливаться и всякий раз плевал в его сторону. В стремлении к своей цели Фет отрекся и от любви. Дочь бедного херсонского помещика Мария Лазич — он сам писал о ней другу как о возможности счастья и примирения с жизнью. Но она была бесприданницей, и Фет не нашел в себе решимости пожертвовать шансами на выгодную женитьбу. В 1850 году Мария трагически погибла. Фет, конечно, не имел к этому отношения, хотя это не спасло его от тяжелого удара и пожизненных угрызений совести. Но не отказываться же было от того, за что он уже заплатил так дорого! Спустя 7 лет он нашел подходящую во всех отношениях невесту: Марию Боткину, сестру известного критика. И шаг за шагом продолжал реализовывать свой план. На приданое жены приобрел имение, где активно хозяйствовал, воевал с ленивыми и непочтительными мужиками, ругал реформы, угрожавшие миру, куда он только-только начал входить. Его романсы появлялись в печати вперемежку со статьями о земледелии, где он сетовал на потравы своих полей крестьянскими гусями и на то, что законы плохо охраняют интересы помещика. Язвительный Дмитрий Минаев высмеял эту диковинную смесь в пародии, воспроизводившей слог всем хорошо знакомого стихотворения «Шепот, робкое дыханье…»: …От дворовых нет поклона, Все возраставший поэтический авторитет Фета наконец открыл ему доступ и в придворные сферы. Он вступил в переписку с великим князем Константином Романовым, который сам был небездарным поэтом и публиковался под инициалами К. Р., и стал кем-то вроде его литературного наставника.Шапки набекрень, И работника Семена Плутовство и лень. На полях чужие гуси, Дерзость гусенят, Посрамленье, гибель Руси И разврат, разврат! В конечном счете, пользуясь протекцией К. Р., Фет вернул себе потомственное дворянство и старую фамилию, на которые, в сущности, не имел права, буквально за пару лет до смерти получил придворный чин камергера (предмет мечтаний Фамусова) и разбогател. Безусловно, получил он то, что хотел. Было ли это то, что ему нужно, — вопрос более сложный. Близкий друг поэта, Аполлон Григорьев, признавался: «Я не видал человека, которого бы так душила тоска, за которого я бы более боялся самоубийства». Завоеванная, как награда, фамилия «Шеншин» только закрепила ситуацию раздвоения: читающей России он был уже известен как Фет и прославил именно это, ненавистное ему имя. Потомственное дворянство, за которое он страдал столько лет, не пригодилось: брак с Марией Боткиной оказался бездетным. И даже через 35 лет после гибели той, первой Марии, ее образ продолжал тревожить поэта: …Что за раздумие у цели? Жизнь Фета и сама незаурядная его личность оказались во многом исковерканы погоней за химерой социального успеха.Куда безумство завело? В какие дебри и метели Я уносил твое тепло? Где ты? Ужель, ошеломленный, Кругом не видя ничего, Застывший, вьюгой убеленный, Стучусь у сердца твоего?.. Но тем сильнее укреплялась в его стихах идея чистой поэтической красоты. Лирический душевный контакт его героя с природой в повседневности был вытеснен сельскохозяйственными предприятиями; любовные чувства — браком по расчету; поэтические вдохновения обладали, помимо всего прочего, рыночной ценностью. Хоркруксы — не хоркруксы, но… в свои стихи Фет поместил ту часть своей души, которой не нашлось места в буднях. А для жизни оставалось то, чему был воспрещен доступ в лирику. Он мог жить в обоих этих мирах, но только наглухо изолировав их друг от друга. Его стихи — заклятие границы: Только в мире и есть, что тенистый Мир, выстроенный «из тонких линий идеала», был эстетической утопией. И здесь пролегает черта, отделяющая гармонию мира Фета от гармонии Пушкина.Дремлющих кленов шатер. Только в мире и есть, что лучистый Детски задумчивый взор… У Пушкина — представление о подвижном равновесии бытия, синтез полярных начал. Мир, состоящий из житейских забот и идеалов, горя и радости, расцветов и упадков, сменяющих друг друга. Мир движущийся и полный противоречий, — впрочем, это одно и то же. Над головой человека здесь светит солнце и бушуют непогоды. Мир Фета застыл. Он погружен в неподвижный воздух оранжереи, через стекло которой проходят лучи светил, но больше — ничего: ни звука, ни дуновения ветерка из внешней реальности с ее грубыми житейскими заботами. Любое движение угрожает нарушить это хрупкое равновесие. Поэзию Фета иногда называют «парковой»: это поэзия облагороженного, окультуренного природного пространства, притом замкнутого, — не как тюрьма, но как рай, как иной уровень бытия. Фет — поэт фаустовского: «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!» Неподвижность фетовского мира, конечно, не есть застойность: это пребывание в красоте. Фет интуитивно стремится снять противоречие между переживанием полноты мгновения и принадлежностью его к некому временному ряду, к тому, что движется, идет на ущерб. Самым знаменитой находкой его в этом направлении стало стихотворение «Шепот сердца, уст дыханье…». Этот пейзаж полон движения — но оно из глагольных форм перетекло в существительные, закрепилось в них. Субстантивировались даже эпитеты: не «серебряный» или «пурпурный», а «серебро», «пурпур» и т.д.: Шепот сердца, уст дыханье, Мир пронизан одновременно покоем — и вибрациями жизни. Примиряются враждующие антитезы бытия, тот самый «покой в бурях», которого тщетно искал лермонтовский Парус. Трели соловья, Серебро и колыханье Сонного ручья, Свет ночной, ночные тени, Тени без конца, Ряд волшебных изменений Милого лица, Бледный блеск и пурпур розы, Речь не говоря, И лобзания, и слезы, И заря, заря!.. Критики Фета (а их было куда как много) иронически предлагали читать «Шёпот…» от последней строчки к первой, уверяя, что при этом ничего не изменится. Легко проверить: чисто номинативные конструкции и совпадение конца строки с концом синтагмы дают проделать такой трюк. Но… при этом начинает течь назад время — и природное (от зари через ночь — к вечеру), и психологическое, время любовного свидания. Оказывается, время-то у Фета есть — но оно спрятано! Импрессионистические штрихи, как бы выхваченные случайным бликом «ночного света» из полутьмы сада, создают полускрытую для внешнего нескромного взгляда картину любовной встречи, где спрятано не только всё интимное, но с ним — и невыразимое: духовное значение этого события. И то, и другое сознательно недосказано, недоступно для посторонних. Мгновение равно вечности. То, что позади и впереди него, оставлено за рамкой картины: Не спрашивай: откуда появилась? Это бабочка. Но статуи — Диана, Венера Милосская — так же живут в вечности, как бабочки — в своем мгновении:Куда спешу? Здесь на цветок я легкий опустилась И вот — дышу. И всепобедной вея властью, Фет разрабатывает все темы, которые принято называть «вечными», но сводит их к общему знаменателю: красоте. Красота мира — природа, красота чувства — любовь, красота творческого духа — искусство. Поэтому лирика Фета не поддается даже тематическому жанровому делению: пейзажная, любовная и т.п. Знаменитое «Я пришел к тебе с приветом…» рассказывает сразу и о весенней заре, и о страсти, и о песне, которая просится из души. Всё это — единое переживание Красоты.Ты смотришь в вечность пред собой. Почти никогда Фет не писал на злобу дня. Таких поэтов было немало в пушкинское время — хотя бы Дельвиг или Баратынский. Таким, собственно, был и современник Фета, Тютчев. Но его мало кто знал: он почти не печатался, поглощенный своей бурной служебной и личной жизнью. И вообще тютчевская натурфилософия эпохе была просто «параллельна». Фет же держал себя вызывающе, всячески подчеркивал свое презрение к политике как предмету поэзии. И в агрессивном стихотворении «Псевдопоэту», явно метившем в Некрасова, обозвал последнего «продажным рабом». (Немного непоследовательно, учитывая, что Фет сотворил с собственной жизнью, да что ж поделать…) Так и вышло, что именно Фет стал знаменем идеи «искусства ради искусства», чьи вожди ссылались на Пушкина, на его противопоставление поэта и толпы: «Мы рождены для вдохновенья, / Для звуков сладких и молитв…». В пушкинское время эти строки декларировали независимость поэзии, но сейчас время было уже другое, и все виделось в ином свете: стихи Фета, по меткому выражению критика, казались «возмутительными своей невозмутимостью и полным отсутствием гражданской скорби». Только песне нужна красота, Это был открытый вызов «некрасовскому» лагерю, который вооружился прямо противоположным лозунгом:Красоте же и песен не надо. К народу возбуждать вниманье сильных мира — Существо претензий современников к Фету хорошо сформулировал Достоевский. Представьте себе, — писал он, — что на другой день после страшного лиссабонского землетрясения (1755 год) выходит в свет газета, в которой уцелевшие жители ждут найти сведения о размерах катастрофы, о принимаемых мерах и прочее — и вдруг находят там что-нибудь вроде «Шепот, робкое дыханье…»:Чему достойнее служить могла бы лира? Должно быть, они тут же казнили бы всенародно, на площади, своего знаменитого поэта, и вовсе не за то, что он написал стихотворение без глагола, а потому, что у бедных лиссабонцев не только не осталось охоты наблюдать «в дымных тучках пурпур розы» или «отблеск янтаря», но даже показался слишком оскорбительным и небратским поступок поэта, воспевающего такие забавные вещи в такую минуту их жизни. Правда, — прибавлял Достоевский, — впоследствии они бы поставили ему за такое стихотворение памятник.Достоевский был и прав, и неправ в своей оценке. «Безглагольность» стихотворения, поэтические новации были не последней причиной бурного отторжения. Фет далеко обогнал современников на пути чисто художественных открытий и экспериментов. Восприимчивость к многообразию и красочному богатству мира вызвала его возглас: «О, если б без слова / Сказаться душой было можно!» Подобные жалобы звучали и раньше. Но Тютчев сожалел о закрытости внутреннего мира человека от другого человека («Как сердцу высказать себя?..»), Жуковский — о невыразимости горнего в дольнем, в земном языке. Материальные же, внешние красоты природы, по Жуковскому, без труда уловимы в слове: «легко их ловит мысль крылата». Напротив, для Фета уже материальное видится таким бесконечно богатым, что требует дополнительных возможностей и средств: «…меня из определенной области слов тянуло в неопределенную область музыки». Трепетное, незавершенное, фрагментарное, увиденное свежим взглядом — такова природа глазами импрессионистов. Передать субъективный характер впечатления (impression), его мимолетность; отразить текучую жизнь природы в индивидуальном видении человека. Вот картина вечера: Прозвучало над ясной рекою, Что прозвучало, прозвенело… и так далее? Мы не узнаем, и знать это не надо. Есть только общее впечатление от действия.Прозвенело в померкшем лугу, Прокатилось над рощей немою, Засветилось на том берегу. Наиболее значимые для Фета образы обозначают бесформенные стихии и состояния: сон, метель, весна, мгла, лазурь, огонь, ночь, полет, песня и пр. А картины складываются посредством «кадров» — эмоционально выделенных впечатлений. Например, осень — это мелькающие вдали грачи, падение сухих листьев, крик журавлей, прыгающее по ветру перекати-поле. Музыкальный принцип композиции, основанный на непрямых связях и индивидуальных ассоциациях, навлекал на себя ехидные насмешки пародистов. В их числе был и знаменитый Козьма Прутков (забавно, но один из участников прутковского «квартета», А.К.Толстой, сам являлся поэтом фетовской школы). Поэзия вообще не поддается пересказу, но в отношении фетовских стихов это справедливо вдвойне. Задача поэта — не рассказать и даже не показать, а именно «навеять» читателю определенное настроение: своеобразная поэтическая индукция. Отсюда метафоры и сравнения, которые даже сейчас выглядят неожиданными, — а уж какими они казались современникам Фета! Метафоры Фета (точнее, тропы) живут на пределе выразительности: «серебряное эхо», «румяная тишина», «тающие скрипки», «стужа мертвых грез»... Они наслаиваются друг на друга. Фет сравнивал стихотворение с розовым бутоном: «чем туже свернуто, тем больше несет в себе красоты и аромата». Например, образ неба дождливой ночью: Ни огня на земле, ни звезды в овдовевшей лазури… Сюда включено сразу и представление о базовом цвете (голубой), и об актуальном цвете (черный), и о его эмоциональном наполнении: овдовевший → утрата → печаль → траур → чернота, тьма…Сравнения становятся уникально-единичными: Уноси мое сердце в звенящую даль, Или:Где как месяц за рощей печаль… Былое стремленье Пейзаж и портрет-воспоминание перетекают друг в друга:Далеко, как выстрел вечерний. И в звездном хоре знакомые очи Растворяются смысловые границы. Типичнейшими для Фета оказываются довольно редкие приемы — например, катахреза (сочетание разных смысловых рядов):Горят в степи над забытой могилой. Раскрываются тихо листы, Не случаен интерес, проявленный к лирике Фета русскими композиторами. Чайковский писал: «Это поэт-музыкант, как бы избегающий даже таких тем, которые легко поддаются выражению словом. Для человека ограниченного, в особенности немузыкального, пожалуй, это и бессмыслица». И я слышу, как сердце цветет. Не меньше ценили талант Фета и собратья-литераторы (даже его вечный антагонист Некрасов). Но вот широкая публика по большей части недоумевала. Форма в литературе — элемент более консервативный, чем содержание, и к ее перестройке привыкают медленно. И только после смерти поэта его лирика получила полное признание: она осветила дорогу от романтиков к символистам — прежде всего к Александру Блоку. На этом пути — обновление формы — получила новое дыхание русская поэзия «серебряного века»: Поделись живыми снами, Говори душе моей; Что не выскажешь словами — Звуком на душу навей. Свернуть сообщение Показать полностью
35 Показать 14 комментариев |
|
почти #поэзия #юмор #баян обыкновенный, сетевой
Математические стихи для чтения вслух: 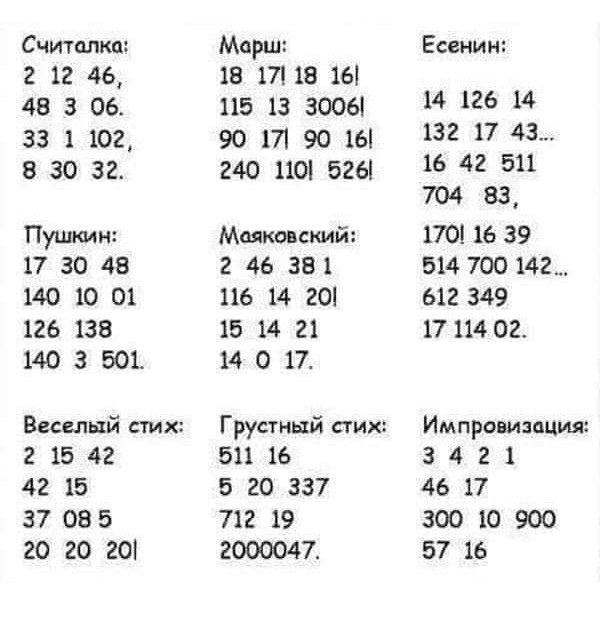 30 Показать 3 комментария |
|
#поэзия #переводческое
21 марта — не только весеннее равноденствие, но еще и Всемирный день поэзии! По этому случаю — эксклюзивная акция, которая посвящается поэтам и любителям поэзии на Фанфиксе!)) Совсем чуть-чуть об авторе. Уолтер де Ла Мар (1873–1956) — английский поэт и новеллист георгианской эпохи. Французская фамилия досталась ему от предков-гугенотов. В литературе де Ла Мар выделял два типа воображения: интуитивно-провидческое («детское») и интеллектуально-аналитическое. Источник поэзии провидца находится внутри, источники интеллектуала — вовне: в действии, знании вещей и опыте. Первый исходит из того, что красота есть истина, второй же доказывает, что истина — это красота. Сам де Ла Мар всю жизнь принадлежал именно к числу провидцев. William L. Phelps писал о де Ла Маре, что его поэзию, где люди — призраки, а звуки — только эхо, не стоит рекомендовать читателям, чей вкус ограничен мелодрамой, «кто предпочитает хриплый крик животной страсти тихой, печальной музыке человечества»: Но бывают времена, когда кажется, что всем надоели резкие голоса, люди, кричащие, чтобы привлечь внимание, поэты, наживающиеся на своих нравственных и литературных пороках, продавцы модных стихотворных новинок. На русский язык де Ла Мар, к сожалению, переводился очень мало.Несомненно, поэт должен обладать и мужеством, и верой, чтобы так твердо держаться в стороне от конкуренции на рынке, сочиняя свои любимые стихи — о детях, о цветах, об осени и зиме, о призраках памяти, о литературных героях… Ничего буйного и свирепого; он не внес никакого вклада в литературу бунта. И все же многие его стихи неотразимо взывают к нашим более глубокомысленным настроениям, и его фантазия, всегда обаятельная и задумчивая, поднимается на высоту чистого воображения… The Advance of English Poetry in the Twentieth Century Я выбрала три еще не переводившихся стихотворения с общим мотивом — неизбывность: памяти, любви, долга. ПЕСНЯ ТЕНЕЙ Тихо тронь струну, музыкант, Длинной худой рукой: Пусть её слабый, трепетный звук Нарушит ночной покой. Пёс у камина скулит во сне, Мерцает пламя свечи. Что за тень бежит по стене В этой странной ночи? Нежно тронь струну, музыкант. Слышишь? Видишь? Готов? Иней на темном стекле плетёт Свой лабиринт из цветов. Скрипнула и приоткрылась дверь — Призрак во тьме ночной. Музыка поманила его: Вернись ещё раз домой. ОДИНОЧЕСТВО Гнездо соловья на ветру в декабре, Воздух в мерцающем серебре, Тявкает лис в холодной норе. А я — любовь свою не сберёг, Я одинок. Зима. Птицы щебечут, ручьи журчат, Солнце струится в розовый сад, Пчёлы на запах цветов летят. Я одинок. Зима. Тени вьются вокруг свечи, Звёздный Охотник сияет в ночи, Я в прошлом навек себя заточил. Ах! я любовь свою не сберёг. Я одинок. Зима. ПЕСНЯ КОНЦА У Края всех веков и времён На страже Рыцарь стоит. Измождено худое лицо, Иссéчен старинный щит. Давно заржавéла его броня, Но так же тверда душа. Сюда он послан — и здесь стоит, Покуда может дышать. Ни птичьего пенья. Ни ветерка. Лишь одиночество — на века. Это — его крест: Принятый в сердце Квест. Не помнит дней, не считает лет — Посланник забытых племён, Но здесь не вечность ему стоять — Лишь до Конца Времён. А здесь еще 4 стихотворения поэта, переведенные профессиональными переводчиками: Всадник. Серебряное. Слушатели. Аравия. Свернуть сообщение Показать полностью
12 Показать 2 комментария |
|
#картинки_в_блогах #времена_года
 Чжао Учао (род. 1944). Весна в деревне Художник родился на юге Китая (Хайнань). Окончил институт по специальности «Китайская живопись, литература и история искусств». Для работ Чжао Учао характерна точка зрения наблюдателя, более или менее приподнятая над землей: это создает впечатление обобщения, принадлежности изображенного некоему извечному порядку земных вещей. Два основных его сюжета — эпические пейзажи и затерянные в горах деревушки, где всё как было тысячу лет назад: никаких примет современности. Чжао поэтизирует не «застой» или бедность, но скорее вневременной характер сельского труда, подчиненного только сезонным циклам. Какие бы катаклизмы и «культурные революции» ни сотрясали страну, народ по-прежнему кормится от трудов крестьянина. Показать полностью
27 Показать 4 комментария |
|
#культура #традиции #поэзия #длиннопост #картинки_в_блогах
Стоило бы добавить тег «ботаника», но его не обнаружилось)) 23 сентября — день осеннего равноденствия. В Японии это День почитания предков. На несколько дней дома украшаются семью осенними цветами и травами ( 秋の七草 — аки-но нанакуса). Луна во время этого праздника считается особенно красивой.  Ёситоси Цукиока. Фудзивара Ясумаса играет на флейте в лунную ночь (1883) На картине — эпизод из «Собрания повестей о ныне минувшем» (XII век). Знаменитый вельможа и поэт во время созерцательной лунной прогулки наигрывал на флейте, когда на него попытался напасть разбойник Хакамадарэ. Показать полностью
 24 2423 Показать 16 комментариев |
|
#поэзия #даты #длиннопост
175 лет назад родился один из величайших лириков — Поль Верлен (1844-1896). «Прóклятые поэты» — так называлась книга очерков, которую Верлен посвятил своим собратьям: А.Рембо, С.Малларме, Т.Корбьеру… Сам он тоже был среди «прóклятых». И не только из-за своей бурной и беспорядочной жизни. Стихи «прóклятых» ломали поэтическую традицию. Подрывали основы классики (как тогда казалось) — и это выглядело просто скандальным. Для нас сегодня такое восприятие стихов Верлена смотрится странным. Там не было шокирующих сюжетов и образов, как, скажем, у предшественника «прóклятых» Ш.Бодлера — и особенно у А.Рембо. Красивые, напевные, чаще всего меланхоличные стихи. Но тогда так не писали — и этого было достаточно. Вот прекрасная (и очень типичная) песня на стихи Верлена из концептуального альбома Д.Тухманова «По волне моей памяти»: Показать полностью
9 Показать 3 комментария |